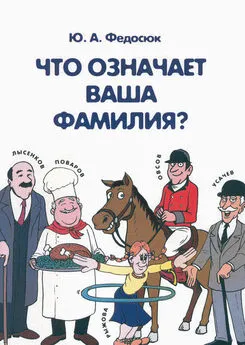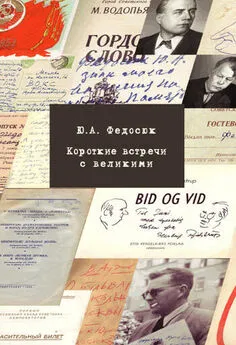Юрий Федосюк - Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов
- Название:Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентФлинтаec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89349-405-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Федосюк - Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов краткое содержание
Как выглядела Москва в 1920-1930-е годы? Как жили тогдашние москвичи, с какими проблемами сталкивались, на чем ездили по городу, где проводили свободное время? Об этом и о многом другом вспоминает известный историк Москвы и русского быта Ю.А. Федосюк (1920–1993).
Книга адресована всем, кого интересует история нашей столицы, жизнь россиян в первые десятилетия после революции 1917 г., их быт и культура. Ее можно использовать и в качестве учебного пособия по москвоведению в общеобразовательных учреждениях.
Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:

Магазин Торгсина.
Фотография 1930 г.
Смысл Торгсина был ясен: собрать у населения уцелевшую после реквизиций 1920-х годов (они прекратились) иностранную и царскую (золотую) валюту и драгоценные металлы – всё это было необходимо государству для закупки за границей нужного для индустриализации оборудования. Обесценившийся и не имевший гарантии советский рубль заграница к оплате уже не принимала. Соблазн для населения, снабжавшегося по карточкам, был велик – думается, что идея Торгсина вполне себя оправдала.
Вскоре за Торгсином в Москве открылись коммерческие магазины, где товары, как правило высококачественные, продавались без карточек и в любом количестве, но по повышенным, «коммерческим» ценам. Помню отделы деликатесных продуктов в этих магазинах. Откуда-то всплывшие, словно из небытия, бывшие приказчики от Елисеева и Белова, чистенькие старички в белоснежных халатах и черных кожаных нарукавниках, артистически отрезали блестящими, остро отточенными ножами ломти розовой ветчины, кусочки балыка, отвешивали черную икру, ловко обертывали их тонкой бумагой и изящным жестом вручали покупателю: «Пожалуйте, милости просим». Слюнки текли при этом зрелище.
Напомню мелкий, всеми уже забытый факт из торгово-финансовой жизни Москвы 1932 года. Внезапно из обращения стала исчезать разменная монета. Куда она подевалась – никто понятия не имел. Торговый оборот стал испытывать великие трудности. Заплатишь в кассу ассигнацией, а кассирша сдачи не дает: нет мелочи, жди, когда кто-то заплатит металлическими деньгами. А никто платить не хочет, даже те, у кого есть, стараются приберечь. В трамвае вспыхивали постоянные скандалы: кондуктору все вручают не мелочь, а рубли, у него же нет сдачи. «Я вас ссажу за безбилетный проезд!» – кричит кондукторша, а пассажир в ответ ей сует рублевку: вот же я хочу заплатить, а вы мне сдачи не даёте! – «А откуда я дам сдачи, если все мне одни только рубли да трешки всучивают, поищите в карманах!»
Дело дошло до того, что госбанк стал выпускать книжечки с купонами, равноценными разменной монете. Рублевая книжечка содержала купоны достоинством в три, пять, десять, пятнадцать и т. д. копеек, обязательные к приему в государственных магазинах, кажется, и на транспорте, но точно не помню.
Официально затруднение объяснялось вредительством. Остатки враждебных классов умышленно собирали и припрятывали разменную монету с целью сорвать торговый оборот и причинить трудности советскому государству и людям. В одной из кинохроник показывали обыск не то у кулака, не то у бывшего кулака: в погребе у него были закопаны мешки – нет, не с золотом, а с обыкновенной разменной монетой. Мешки изымали, вредителя арестовывали.
Думаю, однако, что даже тысяча кулаков не смогли бы таким путем изъять столь ощутимо из обращения разменную монету.
Видимо, просчитался эмиссионный банк, который, желая оставить государству, столь остро нуждавшемуся в тот период в цветном металле, побольше этого металла, резко сократил выпуск разменной монеты, полагая, что и выпущенной ранее монетой люди обойдутся, а попадавшую в банк мелочь сдавал государству как металл, взамен выпуская ассигнации. Однако недостаток вскоре стал ощутим, и произошла своего рода цепная реакция: люди стали приберегать металлические деньги. Или же кто-то пустил ложный слух о предстоявшей якобы денежной реформе, при которой разменная монета, как правило, не заменяется и остается в прежней цене. Отсюда стремление её не расходовать.
С победой колхозного строя в Москве появились колхозные рынки. Точнее, старые, обычные рынки переименовали в колхозные, и торговавшим на них колхозам предоставили какие-то льготы и удобства. Поначалу на них и в самом деле главное место занимали колхозы и отдельные колхозники. Колхозы продавали продукты, оставшиеся у них после сдачи положенной нормы государству.
Ближний к нам колхозный рынок расположился на Хитровской площади и назывался «Хитровский колхозный рынок». Для него использовался длинный навес, сохранившийся от старого, легендарного Хитрова рынка. Разумеется, новый рынок ничего общего со старым не имел, торговали на нем только сельскохозяйственными продуктами. Просуществовал он недолго: в 1934 году на его месте построили здание техникума.
Наша семья не роскошествовала, но и не голодала. Питались преимущественно картофелем, капустой, разными кашами, в основном гречневой – её чаще всего выдавали по карточкам. Пили кофе-суррогат. Колбаса и сыр на столе были редкостью, но мясные блюда варились почти ежедневно. Отцу часто особо жарилась яичница: добытчик! Мне не хватало сладкого, сахара – юношеский организм его требовал в повышенных количествах. Оставаясь один, что было не так часто, я воровал в буфете сахар и варенье, это подкрепляло силы.
Хлеба хватало, к 1934 году даже образовались излишки. Бабушка иногда посылала меня с излишками хлеба на рыночек, что собирался на Лялиной площади, недалеко от Курского вокзала.
Там я менял хлеб (черный) на молоко в соответствии с рыночными обменными расценками. Иногда же просто продавал хлеб – смешно сказать – колхозникам. Они охотно покупали.
Рост производства потребительских товаров сделал возможным отмену карточной системы. 1 января 1935 года отменили карточки на продукты, а 1 января 1936 года – на промтовары. Государственные цены были сближены со сниженными коммерческими. С отменой карточной системы в городах упразднили потребительскую кооперацию; все её магазины перешли к государству.
Отмена карточек была проведена в праздничной атмосфере. Отмечалось, что она знаменовала полную победу социалистической системы как в сельском хозяйстве, так и в торговле. Накануне нарком торговли СССР Микоян выступил с речью, в которой обещал народу полное и стабильное наличие всех продовольственных товаров: они посыплются-де на покупателя как из рога изобилия. Рисунок рога изобилия с выпадающими из него различными вкусными вещами сразу появился повсюду: на стенах, плакатах, в газетах, журналах, в кинохронике. С недостатком продовольствия, казалось, было покончено навсегда. Зерновая проблема была решена. Речь пошла уже о более питательном и разнообразном ассортименте. Тут и появился лозунг «Жить стало лучше, жить стало веселее».
И в самом деле: в 1936–1939 годах положение с продовольствием нормализовалось. Насколько помнится, в эти три-четыре года был достигнут баланс между спросом и предложением. При нэпе предложение резко превышало спрос, в послевоенные годы спрос заметно превышал предложение. А в указанный период продукты первой необходимости можно было купить повсюду в Москве без особого труда. Деликатесы тоже были в изобилии, но цены «кусались», поэтому особых очередей не было ни за рыбой, ни за ветчиной, ни тем более за черной икрой. Красная же икра не считалась деликатесом, она продавалась повсюду и недорого. Так же как консервированные крабы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: