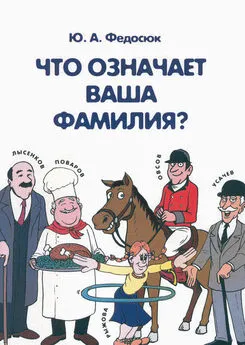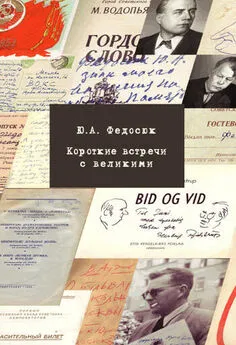Юрий Федосюк - Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов
- Название:Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентФлинтаec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89349-405-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Федосюк - Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов краткое содержание
Как выглядела Москва в 1920-1930-е годы? Как жили тогдашние москвичи, с какими проблемами сталкивались, на чем ездили по городу, где проводили свободное время? Об этом и о многом другом вспоминает известный историк Москвы и русского быта Ю.А. Федосюк (1920–1993).
Книга адресована всем, кого интересует история нашей столицы, жизнь россиян в первые десятилетия после революции 1917 г., их быт и культура. Ее можно использовать и в качестве учебного пособия по москвоведению в общеобразовательных учреждениях.
Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В самом конце парка, около Нескучного сада, установили скульптурную галерею героев пятилетки, знатных стахановцев – плохо вылепленные гипсовые бюсты. Далее манил Зеленый театр, одно из чудес парка – как подчеркивалось, крупнейший в СССР театр: 20 тысяч зрителей, сцена, на которой могут поместиться три тысячи артистов. Он стоял под открытым небом, сиденьями служили простые скамьи. На огромной сцене чаще всего выступали входившие тогда в моду коллективы народного творчества, музыку и пение делали слышимыми мощные усилители. Дожди иногда нарушали представления, но никогда их не срывали: зрители закрывались зонтами или просто газетами. Публики в Зеленом театре всегда было полным-полно.
В те годы усиленно популяризовался парашютный спорт как один из. важных видов оборонной подготовки. Наряду со стахановцами, полярниками и отважными пограничниками – ловцами диверсантов парашютисты-рекордсмены были героями страны. В связи с этим неподалеку от Крымского моста построили 30-метровую парашютную вышку. Однажды я отважился с неё спрыгнуть. На верхушку приходилось долго забираться по крутой винтовой лестнице. Снизу верхушка башни, откуда спрыгивали, казалась высокой, сверху же земля показалась глубокой пропастью – любопытный оптический эффект. Спрыгнул легко и не без удовольствия. Внизу псевдопарашютистов (прыжок со столь кроткого расстояния, разумеется, амортизировался прикреплённым к парашюту краном-рычагом) встречал плотный круг зевак.
Во второй раз случился небольшой конфуз. Придя в парк с приятелем, я предложил, чтобы и он и я спрыгнули с вышки. Приятель отказался, тогда я взобрался на вышку один, а он наблюдал за мной снизу. Надели на меня лямки, подвели к краю, я глянул вниз, с высоты десятого этажа, – и тут ноги мои словно приросли к помосту, сделалось страшно. Но позади ждали своей очереди другие – нерешительные отнимали время, срывали план; мои раздумья длились недолго – мощный толчок в спину бывалого инструктора тут же низверг меня на землю. К великому моему счастью, ни мое замешательство, ни толчок не были замечены ни моим приятелем, ни другими наблюдавшими за прыжками снизу, и я вышел из круга, освободившись от парашюта, с гордо поднятой головой отчаянного смельчака.
Рассказываю об этом случае как о трудно объяснимом психологическом явлении: не в первый раз испугался, а во второй. Такое случалось не только со мной, но и с другими (по их рассказам), и в других житейских ситуациях. Один фронтовик-разведчик рассказывал мне, как трудно было ему во второй раз пойти в тыл противника, тогда как в первый раз он пошел смело и никаких опасностей не ощутил.
С той же башни можно было спускаться вниз, скользя по спиральному лотку, усевшись на особый коврик. Это я тоже испробовал, думая, что покачусь вниз с головокружительной скоростью, как на бобслее. Не тут-то было: дощатый лоток изрядно протерся и в некоторых местах лишился лака; кое-где я (как и другие) застревал, и приходилось подталкиваться ногами.
Протекающая рядом Москва-река тоже на сто процентов использовалась для отдыха. Сперва я покатался на ней на речном трамвае, потом на «народной лодке». Но вот открылась байдарочная станция. Позавидовав гребцам на байдарке, я дерзнул взять одиночную байдарку и, никем не обученный, самостоятельно прокатиться по реке. Для этого надо было раздеться до трусов. Уже с первого раза я научился грести нормально и получил огромное удовольствие, всем телом ощущая благотворное воздействие трех стихий – солнца, воздуха и воды. В студенческие годы греб довольно часто, но один, товарищей не нашлось. Стал даже лихачествовать – качаться на крутых волнах позади проходивших катеров, пока один опытный гребец не отсоветовал: байдарка легко опрокидывается, и сидящий в ней оказывается в воде вниз головой, а выбраться нелегко, потому что ноги спрятаны в корпусе суденышка. Иногда я плавал на байдарке до Бородинского моста, мимо пустынных тогда Лужников, покрытых складами и песчаными карьерами. Здесь было мелко, плескались местные ребятишки, доносились крики петухов, перевозчик возил на лодке людей к противоположным Воробьевым горам; трудно представить себе, что именно в этом захолустном тогда месте расположится в будущем стадион мирового значения.
Раза два я поплыл от водной станции вниз по течению, за Крымский мост, хотя это возбранялось. Но отвадил не запрет, а шпана, стоявшая на мосту: она закидывала лодочников и байдарочников огрызками яблок. Удивительно, с какой силой мелкий огрызок, сброшенный с высоты, сотрясал байдарку: она содрогалась и виляла, словно от удара булыжника. Одним словом, физика на каждом шагу.
Зимой в парке работали каток и лыжная станция. Собственных лыж у меня не было, по воскресеньям иногда я брал на прокат лыжи на парковой станции и пускался в долгий путь до Потылихи и обратно по накатанной колее, проходившей по плотному льду Москвы-реки. Недостаток был в том, что лыжня была абсолютно ровная, но лыжников встречались сотни.
Давние, идиллические времена! Фрунзенская набережная только начинала застраиваться крупными зданиями, тут и там торчали лачуги. Вся местность напоминала убогую окраину. После войны лыжная станция исчезла, река теперь вдоль парка не замерзает. Закрыли не только байдарочную, но даже и лодочную станцию, очевидно потому, что движение по реке стало слишком интенсивным.
В 1932 году парк посетил Максим Горький, он с восторгом о нем отозвался. Вскоре парку, как и десяткам других объектов в стране, присвоили его имя.
Тогдашняя Москва с наивной, молодой гордостью прямо-таки упивалась своим новым, прекрасным парком. Памятью этой гордости осталось название станции метро, расположенной сравнительно далеко, за мостом, – «Парк культуры» (вместо более естественного – «Крымская»). Лишний раз хотелось напомнить о парке как об одном из уникальнейших сооружений Москвы.
До войны в парке устраивались карнавалы, он был притягательнейшим местом для московской молодёжи. С утра до вечера на аллеях гремела музыка, лившаяся из репродукторов, – тогда они были еще новинкой и использовались весьма старательно; подчеркивалось ради привлечения публики, что весь парк радиофицирован и даже имеет собственный радиоузел. Можно посидеть на удобной скамейке, среди цветов, и послушать радио – столь мощное орудие массовой культуры. Радио тоже служило приманкой.
Бесспорно, Центральный парк сыграл немалую роль в деле воспитания широких масс и приобщения их к культуре. Люди в те времена не ведали ни телевидения, ни транзисторов, ни магнитофонов, источники информации и даже обыкновенной музыки были весьма скудны. Огромная разница с нынешним временем, когда перекормленный звуковой пищей москвич спасается от неё в уединённых местах Нескучного сада и Ленинских гор! [41]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: