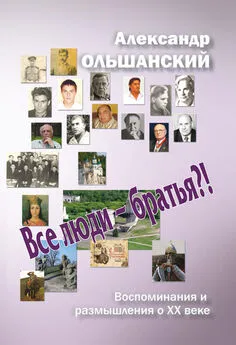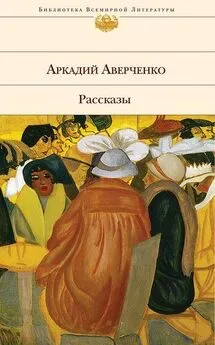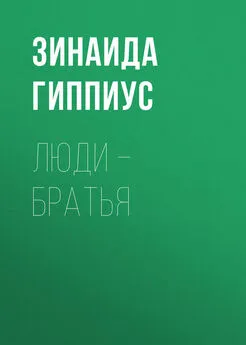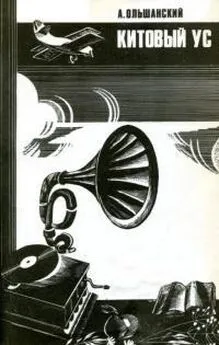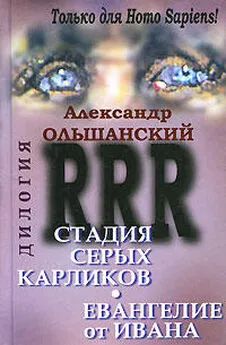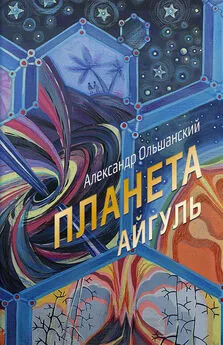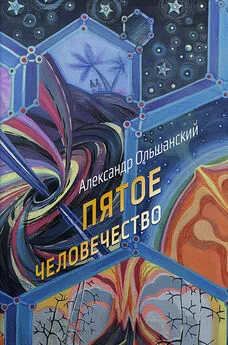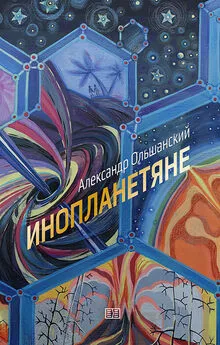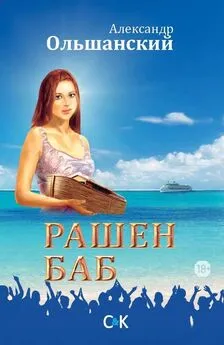Александр Ольшанский - Все люди – братья?!
- Название:Все люди – братья?!
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Спорт и Культура
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-280-03656-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Ольшанский - Все люди – братья?! краткое содержание
Все люди – братья?! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Если бы я был Гоголем, то спросил бы: а знаете ли вы, как летом пахнет на окраинах Изюма чабрецом? Нет, не знаете. Не знаете и такое растение, растущее на песчаных буграх упрямым колючим кустиком и цветущее крохотными лиловыми цветочками. Оно было моим первейшим лекарством, когда вдруг нестерпимо начинало резать живот. Все детство, каждый месяц, особенно летом, выручало меня это чудодейственное растение, которое я сам себе заваривал. Сколько же всевозможной отравы мы съели в детстве?!
А еще меня донимали нарывы на ногах. Ведь ходили босиком, а возле железной дороги сколько валялось всевозможных камней! Тем более что дорогу в войну взрывали. Если не каждый день, то через день я разбивал в кровь пальцы на ногах, подчас даже срывая ногти. Или пробивал пятки – колючей проволокой, которую нам натащила Европа, всевозможными занозами, гвоздями, колючками. Большие пальцы и пятки почему-то имели обыкновение нарывать. Какими же мучительными были ночи, с глиняной повязкой, под которой созревал нестерпимо медленно нарыв.
И какое же приходило облегчение, когда кожа лопалась, гной выходил. Спустя день-два рана подживала, старая кожа отслаивалась, обнажая новенькую, розовую и нежную, которую ожидала та же судьба. Безусловно, моя мать не ошибалась, когда говорила в таких случаях: «Зажывэ, як на собаци». Заживало, куда ему было деваться…
Нет, не пересилить мелким неприятностям мои воспоминания о детстве как о поре счастливой. Разве стоил сорванный ноготь одной песни под огромным небом?
Когда я сейчас заслышу или натыкаюсь на камлания современных бардов-пузочесов, в чьих песняках ни складу, ни ладу но зато много модного речитатива, похожего на наркотический бред, отчего зрители, подрастающее поколение баблоинов, воздев руки, превращаются в орду трясунов, я тут же вырубаю радио или меняю программу в «ящике». Не могу я взирать на банды подтанцовщиц, которые, обходясь несколькими квадратными сантиметрами материи для концертного наряда, откровенно виляют голыми задницами и трясут сиськами. Хватанули «культурки», к «цивилизации» приобщась, – тут мне и добавить нечего…
Не новые человеки
Мое детство и юность пришлись на время, когда еще жили люди, разительно не похожие на ходульные образцы так называемого нового человека, которого пытались вырастить большевики. Как я понимаю, велась постоянная работа по созданию некоего безличностного существа, наделенного коммунистической идеологией, которому не позволялось ни в малейшей степени сомневаться в ее истинности, возмущаться функцией беззаветного малооплачиваемого труда и способностью, в случае чего, сражаться до последней капли крови и отдать жизнь за социалистическое Отечество. Ведь в любом сражении важно победить врага и остаться самому живым.
Ан-нет! Почему-то внедрялся в сознание и по сей день внедряется панихидный героизм. Думается, объясняется он поразительным безразличием власти к человеку вообще.
Люди старшего поколения, родившиеся задолго до октябрьского переворота, которых я знал, были не стандартными винтиками, а личностями, нередко претендующими на то, чтобы стать в моих рассказах литературными типами. Годам к двадцати я понял, что люди, родившиеся в годы советской власти, особенно мое поколение, в немалой степени стандартизированы. Двойная мораль, одна – напоказ, а другая – для собственно жизни, которая допускала и воровство, пусть и мелкое, шабашечное, несунское, и поиск путей, как объегорить начальство. И зависть, и нетерпимость к чужому успеху или чужой удаче, и вранье, не говоря уж о пьянстве, мордобое, в которых давало о себе знать постоянное унижение человеческого достоинства.
Не могу сказать, что старшее поколение вызывало у меня исключительно положительные эмоции. Наверное, жизненный опыт делал их устойчивыми к социальной шизофрении, эпидемии которой буйствуют на одной шестой части суши вот уже более века. Круг за кругом, только с разными бирками: от коммунистического светлого будущего до либерально-капиталистического процветания. Если мои сверстники и современники постарше старались не высовываться, как бы вжимались всем существом в общие народные массы (выраженьице еще то, из тех времен), маскируясь под них, с целью не только выжить, но и благоденствовать, то люди дооктябрьского сукна на их фоне, как правило, смотрелись личностями и индивидуалистами. Для меня, как начинающего литератора, их судьбы служили благодатнейшим материалом.
Чего стоил, к примеру, некий Павел Логвинович, кажется, по фамилии Душенко, а по-уличному – Павло Патлань! Он обладал по крайней мере тремя выдающимися особенностями – даром непревзойденного вранья и непревзойденной лени, а также неистребимой тягой к воровству. Высокий и статный, он медленно шествовал по улице, поворачивая голову то налево, то направо. Все знали, что Павел Логвинович приглядывается, чего бы спереть.
Бывало, зайдет к нам, беседует с отцом о том, будет ли новая война, об охоте, о новостях, например, о снижении цен. Иногда Павел Логвинович начинал вспоминать свою воинскую службу в годы революции в Петрограде и о том, как ездил Ленина арестовывать. За подобный треп в те годы он мог бы отправиться на Соловки, но ему все сходило с рук.
Как только Павел Логвинович покидал нашу хату, мать тут же приступала к обследованию: а всё ли на месте, ничего не пропало? Поскольку не было еще такого случая, чтобы Павел Логвинович ничего не стащил, хоть одну рукавицу, да и ту дырявую, хоть обмылок, хоть портянку, но украдет.
– Догони его, пусть рукавицу отдаст! – велела она отцу.
И отец шел к калитке, ведущей на улицу, и кричал вслед величественно удалявшемуся приятелю: «Пал Логвинович, а рукавицу-то отдай!»
Тот останавливался, делал вид, что ищет по карманам, наконец, находил рукавицу и бросал ее в сторону отца со словами:
– А я думал: моя.
Отцу приходилось идти поднимать рукавицу, а вернувшись в хату, выслушивать упреки матери, которая требовала, чтобы Патланя у нас и духу не было. Впрочем, у матери имелись и другие причины недолюбливать Павла Патланя. Из Петрограда он привез жену, которую сделал, наверное, самой несчастной женщиной на свете. Жили они в старой-престарой хатенке, подслеповатой и холодной. Постоянно недоедали, поскольку, невзирая на громкую славу ворюги, Павел Логвинович-то воровать как раз и не умел. Ничего не украл, чтобы поправить свое разрушающееся гнездо, не принес вечно болевшей и голодной жене. Моя мать, как и другие соседки, когда Павел Логвинович отсутствовал, носилась с кастрюльками к несчастной женщине.
Кому-то, как известно, везение сыплется со всех сторон как манна небесная, а по отношению к этой семье применима лишь пословица: пришла беда – отворяй ворота. У Павла Логвиновича было две дочери. Младшая – невзрачненькая, похожая на подслеповатую чухоночку, но как-то устроилась в жизни – и замуж вышла, и работала на оптико-механическом заводе, кажется, и квартиру получила. А вот старшей Вере, красавице, в жизни не везло. Во время войны ее угнали в Германию. Вернулась она из неволи, а относились к таким у нас хуже некуда. Сами же виноваты, что не защитили девушку, позволили увезти в проклятую Неметчину.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: