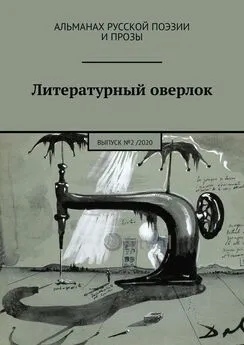Таня Тавогрий - Литературный оверлок. Выпуск №2 / 2017
- Название:Литературный оверлок. Выпуск №2 / 2017
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448509094
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Таня Тавогрий - Литературный оверлок. Выпуск №2 / 2017 краткое содержание
Литературный оверлок. Выпуск №2 / 2017 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Выйдя с моста, я огляделась. Здесь предлагают что-то купить (однажды мужчина, что ел мармелад из пакета грязными руками, подошёл ко мне у светофора, и спросил – «марихуана?»), и продавец кукол управляет марионеткой Пиноккио так, что тот танцует очень подходяще звучащей музыке; чуть дальше, у памятника (чулок, складки ткани на колене, лайкры-то не было, и пусть, потрогать бы) – туалет, и чернокожий моряк ждёт кого-то (беги!)
Перейдя дорогу, я прошла прямо, потом углубилась в город, там – так же, как и вчера днём, та же степень беспокойства, я лишь опасалась, перед самой собой делая вид, будто недоумеваю, на самом же деле – зная. Тощий, похожий на подростка парень, голова его брита, и закатаны штаны, он бледный и бита для бейсбола в его руке. Я уставилась в землю («Я? Я? Я здесь ра-бо-та-ю, я…я кручу тут тесто на деревянных этих штуках, видишь? С корицей, орехами, хочешь? Я рабо-таю. Просто работаю здесь». ) Он прошёл мимо. Я ускорила шаг и свернула.
*
Мимо стены, исписанной, пачканной, пахнущей, я шла (вдалеке две фигуры, скрылись скоро, я не поняла, куда), и вышла на улицу, там, на углу, у здания, стоял бродяга и разглядывал свои руки. Он разглядывал их не потому что хотел узнать, сколько ему осталось жить, не потому что практиковал осознанные сновидения, и не почему-либо подобному. Все кисти рук его были покрыты коркой телесного цвета, и я видела ещё трещину, да, – с противоположной стороны улицы – я видела, по крайней мере, одну красную трещину. А бродяга смотрел, вертел руки свои, и смотрел, будучи в отчуждении – не потому что он бродяга и обижен чем-то, кем-то, а потому что он знал, что он бродяга, что руки его болеют, и он был тих, беззлобен, скромен, он стоял и смотрел на свои руки, я же стояла и смотрела на него и на руки его, и потом я двинулась по улице вперёд. По правую сторону от меня, напротив дома, у которого бродяга и стоял, помещался магазин с дорожными сумками и чемоданами. Разноцветные, с узорами, они были мне противны, и только руки бродяги – милы. Мне бы хотелось дотронуться до них и излечить их. Мне бы хотелось вытащить из карманов бумажные деньги и дать их бродяге. Какой он… стоит и смотрит. Он не был частью этой улицы, но и не хотел нагрянуть, завоевать её, заявить о себе. Он молод, и у него такие волосы… красивые волосы. И у него же, наверное, есть любимая песня. Какая же это песня? Какая у него любимая песня?!
Однако я удалялась, и я не возвратилась к углу дома. Да у меня же есть сотня, и даже ещё несколько сотен в другом кармане, или в кошельке, почему я… Но я шла, и я шла, скоро, может, и не нашла бы уже этот дом, и угол этого дома, а всё, что было передо мной – чуть прикрывающие лицо коричневые волосы и красная трещина на левой кисти руки. Он знал. Всё он знал, от того такой вид, – может сойти за пришибленный, – вид человека, знающего свою жизнь и дело своё, от того не требующего от остальных – ни внимания, ни благ. Как это называется? Самодостаточностью? Казалось бы – вернуться, всего несколько поворотов, и назад, к углу того дома, где…
Чего я боялась? Инфекции? Слова сказать боялась? Остаться без денег? Так я однажды не смогла догнать «полоумного»: он играл накануне на площади – из лопаты соорудил гитару, а деньги, пожалуйста, сыпьте в ведро («он что, дачник?») Сутки же спустя, стоя на проспекте (мокро всё, листья приплюснуты, прибиты к камням тротуара, жёлтые, почти круглые, большие), вижу: стоит, в том же комбинезоне, что и вчера, только (в такой-то холод) футболка красная теперь, ест хот-дог, ест быстро, и я – давай думать, как же сказать, но подойти – точно, и я мнусь, одёргиваю пальцами пальто, я закуриваю (это непременно, под мою речь подходяще), и, повернувшись в ту сторону, где «полоумный» этот (не я так его прозвала) стоял, увидела, как он пошёл по проспекту в противоположную мне сторону, – там дома давали больше тени, и сужался тротуар, поэтому получалось, будто фигура «полоумного» скрывается в темени. Двигался он стремительно, точно таракан: не бежал, но шаги его были настолько громадны, что мне, хоть беги, не догнать его. И кто знает, чего я мялась, чего расправляла это пальто, я теперь просто не угонюсь за ним.
Сейчас, может, и бродяга уже ушёл, только сомневаюсь, что шаги его так же громоздки, как шаги «полоумного».
Придя домой, я открутила пробочку бутылки, я её покупала для лечения, когда горло заболело, так и не откупорила тогда, «само пройдёт», и прошло. Заполнила дно стакана. Опрокинула.
*
Однажды, то было вечером, пальцы мои прошли войну, и я погрузилась в ад, и ад был таким: в нём была и надежда.
Я нашла там Иуду (наши тела были так близки, что и змея не смогла проползти между ними), и я выносила его ребёнка, и что я сделала с ним?
«Простите меня. – Шла я по мосту в ночь, говоря так, и чешуя покрывала мои слова, – Простите меня». А святые стояли, и ангелы стояли, и начали они двигаться, в свете не фонарей, но чего-то ещё. Олень с крестом на голове кивал, осёл, поверженной стрелой в грудь, истекал кровью, а рабы освобождались (сколько уже лет?) И я посмотрела в воду. Сиреневыми продолговатыми бликами она шла кое-где поодаль, и птицы по ней, с обеих сторон от моста, двигались медленно, плыли медленно, точно наползали, и столько их, будто все птицы, что бывали когда-либо на поверхности этой реки, пришли сюда, и сейчас вползут сюда, из подёрнутой сиренево́й водной тьмы (не разберёшь, что за птицы там, снизу, и сколько их), и покроют мостовую, и всех ангелов, всех святых, парапет, и ничего не будет видно за движущимся медленно ворохом их тел.
Я перегнулась через парапет: так я хотела перегнуться однажды через перила балкона, но столько там вещей, и столько стекла – никак не подойти, никак не спустить свою голову вниз, я видела однажды, ива спадала так же своими ветвями, будто перегнулась, и ветви её висели, длинные, как волосы, и не было видно её лица.
Я перегнулась через парапет («простите меня»), и не было слышно крика ребёнка, и не было видно ряби водной, и не было, кроме тьмы, ничего, но двигались в тьме этой птицы.
*
Теперь я слушала простыню, согнувшись на боку в кровати, слушала ухом сползшей с подушки головы, я не спала – три-пятнадцать утра – я думала о бродяге, сейчас он где-то (может быть, неподалёку) был. Он думал о чём-то, или он спал, ему, может, снилось, и он, может, любил? Кого? Как? Как это было?
В вопросах я проваливалась в сон («какая ваша любимая песня?»), потом дёргалась, просыпалась, переворачивалась на спину, смеялась, лёжа, беззвучно, и смотрела на линии света – на потолке, и на длинное, высокое окно за полуоткрытой занавеской. Скоро я незаметно, в тревоге (но тревога та была скорее трепетом, нежели тревогой) уснула.
Утром кожу вокруг губ моих жгло, точно я гуляла по ночи, а не спала, и трескались постепенно углы этих губ – не треснули ещё, но стоит приоткрыть рот, и расходится в трещинах кожа. От чего это? Кричу? «Нет. Молчу. Внутри кричит» – думаю я, но останавливаю себя по-утреннему, зло, даже агрессивно, потому как утренняя мысль – неконтролируемая и безразличная.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: