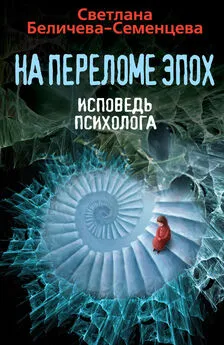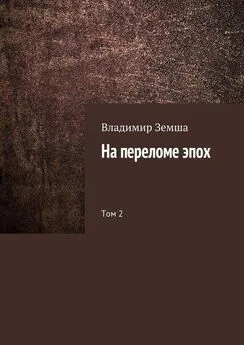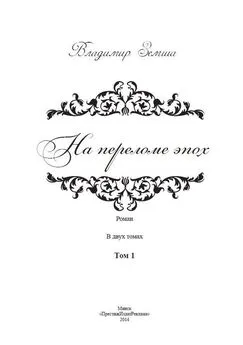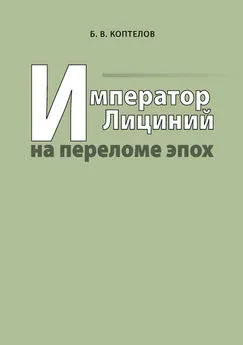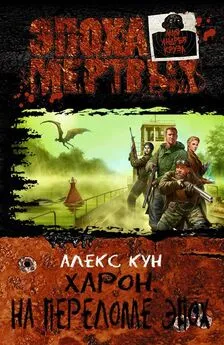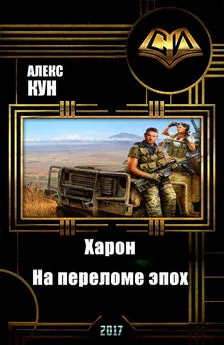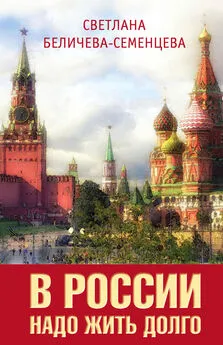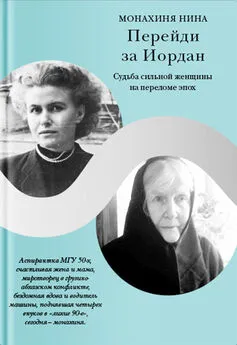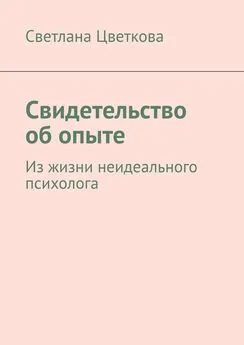Светлана Беличева-Семенцева - На переломе эпох. Исповедь психолога
- Название:На переломе эпох. Исповедь психолога
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Алгоритм»
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4438-0991-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Светлана Беличева-Семенцева - На переломе эпох. Исповедь психолога краткое содержание
Книга адресована тем, кому небезразлична судьба нашего детства, а значит, и будущее страны и нации.
На переломе эпох. Исповедь психолога - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В нашем далеком от столицы сибирском городе бастионом этих педагогических сражений стал наш любимый подростковый клуб «Дзержинец». Тучи постепенно собирались над крышей бывшей водонапорной башни, где размещался «Дзержинец», и над его начальником, неунывающим крепышом Генсанычем.
Ребячья жизнь бурлила в «Дзержинце». Здесь подростков не делили на трудных и благополучных, хотя трудные-то и составляли в клубе большинство. Они стекались в башню со всего города, побуждаемые вначале простым и понятным для мальчишек желанием «подкачаться». Непростая и опасная уличная жизнь требовала от пацанов физической силы и ловкости для отстаивания себя и своего мальчишеского достоинства в кровавых драках. Наслышанные, что в «Дзержинце» можно быстро освоить приемы самбо и каратэ, ребята спешили записаться в клуб. Генсаныч принимал всех, понимающе выслушивал полуправду, полуложь новичков и ставил условие: «Доступ к желаемому карате и самбо возможен только через участие во всех коллективных делах клуба».
Но чем больше завоевывал клуб популярность у мальчишек города, тем больше у него становилось недоброжелателей, особенно среди блюстителей порядка, в милиции и прокуратуре. Вряд ли эти блюстители, которые ополчились на «Дзержинец» и Генсаныча, могли объяснить себе мотивы своей яростной ненависти. Эта категория людей вообще не склонна к рефлексии и каким бы то не было глубоким размыщлениям. Как известно, чтобы запрещать и не пущать, много ума не требуется, и мало того, ум при этом еще и мешает
Поводом, давшим выход кипевшим вокруг «Дзержинца» страстям, стала история с Наташкой, 13-летней строптивой девчонкой, в очередной раз сбежавшей от воспитывающей ее, как правило, ремнем, бабки. Только в этот раз она сбежала не на вокзал или в подвал, а в клуб, в который незадолго перед этим прибилась и успела полюбить больше, чем свой дом.
На беду, Наташкина бабка оказалась из разряда таких же яростных блюстителей порядка, нашедших свое призвание на старости лет в сутяжничестве и писании жалоб. Обнаружив пропавшую Наташку в клубе, она тут же разразилась письмами и жалобами во все мыслимые и немыслимые инстанции, в которых дала волю своим буйным фантазиям, согласно которым, клуб был ничем иным, как притоном, развращающим малолетних.
Такого сигнала только и ждали, и сразу же, вереница въедливых и ничему не желающих верить проверяющих двинулась в «Дзержинец». Инспектора из народного образования требовали планы воспитательной работы, сотрудники инспекций по делам несовершеннолетних – списки стоящих на учете в милиции подростков и планы индивидуальной работы с ними, пожарники – правил соблюдения пожарной безопасности, санэпидстанция – медицинских освидетельствований детей и сотрудников.
Но больше всего старался представитель совета ветеранов, который был представлен в лице еще вполне крепкого, полоумного дедка, вышедшего на заслуженный отдых из органов. На встречах с молодежью, где он делился воспоминаниями о своем богатом жизненном опыте, больше всего этот ветеран любил рассказывать, как во время войны, служа в СМЕРШЕ, расстреливал разных отщепенцев и не закапывал. Эту фразу он почему-то произносил подчеркнуто горделиво, как главный свой воинский подвиг. Конечно же, по строгой оценке всех проверяющих ни Генсаныч, ни «Дзержинец» не выдерживали никакой критики и клуб надлежало немедленно закрыть. Напрасно Генсаныч просил представителей всех инстанций встретиться с ребятами, и ребята сами прорывались к проверяющим. Напрасно им подсовывали пухлые альбомы, где питомцы клуба, бывшие хулиганы, были сфотографированы в военных формах с приложенными благодарностями от воинских частей, где они успешно служили. Напрасно наперебой рассказывали о бывших питомцах клуба, по которым когда-то плакала тюрьма, как благодаря клубу состоялась их судьба, как стали они учителями, офицерами, передовиками производства, учились в институтах, служили в армии.
Но ни слушать ребят, ни знакомиться с живой историей клуба и судьбами его питомцев проверяющие и не думали. Задача была простой и предельно ясной – прикрыть клуб и примерно, по всем возможным линиям, наказать Генсаныча. Это бы, конечно, и произошло, если бы Генсаныч, несмотря на свое богатырское здоровье, не свалился с тяжелейшим заболеванием нервной системы – парезом правой стороны.
В разгар этих событий я возвратилась из Москвы, где наконец-то после долгих проволочек и изобретательных интрижек коллег по кафедре получила приказ Министерства о переводе в докторантуру и предвкушала наконец-то с головой погрузиться в свои научные труды. Не успела я разложить свой багаж, как затрещал телефон с печальными известиями, а следом прибежали дзержинцы с моими студентами-макаренковцами, работающими в клубе, и подробно, в картинках, изложили всю историю разгрома «Дзержинца».
Наутро я была в больнице у Генсаныча. Его вид меня ошеломил. Вместо невысокого крепыша, каким я его знала много лет, навстречу мне вышел щуплый подросток с перекошенным от пареза нерва лицом. Он держался мужественно и пытался шутить, но было явно не до шуток. Надо было что-то делать, спасать Генсаныча, спасать клуб и всех, кто с ним связан.
На два месяца я потеряла сон и аппетит. Квартира превратилась в штаб, где писались письма в инстанции, статьи в местные и центральные газеты, приходили журналисты и все, кто болел за клуб. Таких оказалось немало. Приехала журналистка из «Учительской газеты» Лена Хилтунен. Ее визит в отдел народного образования и затем, публикация в газете, заставили присмиреть проверяющих, разоблачающих «непедагогичность» Генсаныча.
Собкор «Советской России» Игорь Огнев, с нашей общей статьей, прошелся по высоким этажам партийных органов. Я сама с коллективным письмом от научной общественности обошла почти двадцать кабинетов городских и областных властей. Подключилась местная пресса.
Наша бурная деятельность закончилась тем, что как-то утром у меня дома раздался звонок секретаря горкома партии по идеологии, которая раздраженным тоном приказала прекратить шумиху вокруг «Дзержинца», поскольку это мешает властям работать. На что я резко по тем временам ответила, что мы оба, она как партийный работник, а я как ученый, даром едим свой хлеб, если такие, как Генсаныч, оказываются в больнице.
Общими усилиями пожар вокруг «Дзержинца» удалось загасить, подлеченного Генсаныча отправили восстанавливаться на курорт, жизнь в клубе начала понемногу восстанавливаться.
Но история на этом не закончилась. Теперь мстительные блюстители порядка принялись за меня, а вернее, за мою закрытую год назад хоздоговорную научную тему, которую я вместе со своими студентами – макаренковцами выполняла по заказу областного управления внутренних дел. Нам тогда, с девчонками-второкурсницами, третьекурсницами удалось обследовать около тысячи стоящих на учете подростков, добрая половина из которых находилась в тяжелейших условиях и требовала немедленной помощи, которую милиция, конечно же, не имела возможности оказывать. Мои сердобольные девчонки, как могли, поддерживали пацанов, подкармливали со своей степешки, помогали с уроками и безнадежной школьной запущенностью, увещевали пьянствующих, потерявших человеческий облик родителей, словом были, по сути дела, настоящими социальными работниками, о которых мы в то время не слышали. За свою работу они получали по нашей хозтеме 0,1 ставку младшего научного сотрудника, то есть 10 рублей, что составляло треть от их степешки.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: