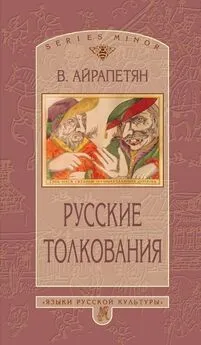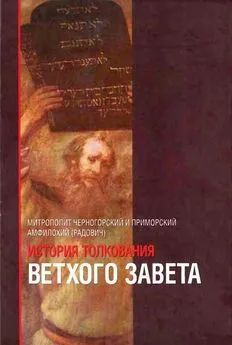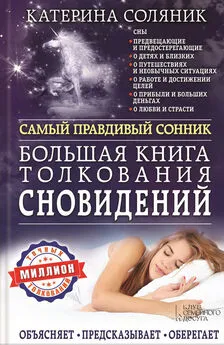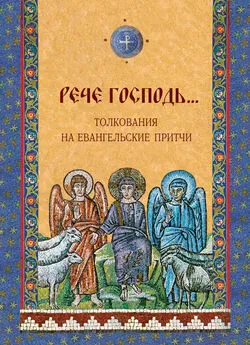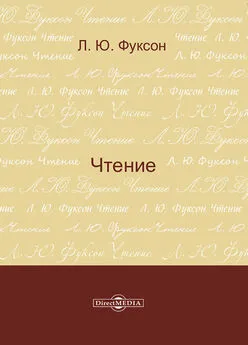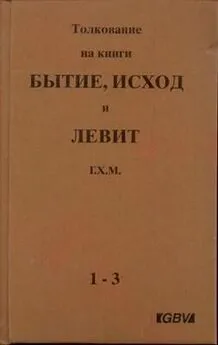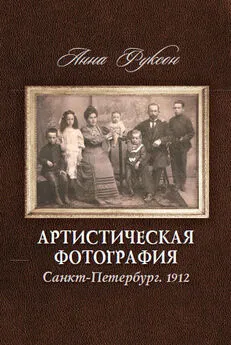Леонид Фуксон - Толкования
- Название:Толкования
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Директмедиа
- Год:2014
- Город:Москва-Берлин
- ISBN:978-5-4475-2554-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Фуксон - Толкования краткое содержание
Толкования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В чем же тогда заключается интерпретация художественной реальности? По-видимому – в определении порядка ее смысловых слоев и ценностных полюсов , иначе говоря – в выявлении ее развертывающейся смысловой структуры.
Например, мы, столкнувшись с выражением «На свете счастья нет…» из пушкинского стихотворения, должны думать не в направлении расшифровки каких-то печальных обстоятельств жизни героя (или, что еще хуже, автора), а в направлении к остальным подробностям самого текста. Мы услышим в этом случае перекличку разочарования в счастье и желания покоя сердца. «Счастье» в мире произведения Пушкина связано как раз с беспокойством сердца, жизнью страстей и с тяжелой зависимостью от них («усталый раб»). Поэтому налицо иллюзорность такого счастья.
Таким образом, толкование символической реальности пушкинского стихотворения состоит не в поиске « за » ним скрытого смысла, а в выявлении семантических взаимодействий различных деталей самого произведения.
При этом, однако, символический принцип взаимного представительства образов художественного произведения не означает смысловой непроницаемости границы его мира. Символическая экспликация может иметь два пути, которые были указаны еще романтической герменевтикой. То, что Ф. Шлейермахер называл «грамматическим» и «психологическим» направлениями толкования (к единству языка и к личности автора), базируется на реальной противоречивости смысловой структуры текста, открытой и закрытой одновременно. Взаимное представительство образов произведения обнаруживает некий узел авторского замысла как «стягивающую силу», организующую «окказиональный» полюс неповторимости художественного смысла (присущего лишь данному тексту). Это «телеологическое» (П. Рикер) направление развертывания символа «на территории» самого художественного произведения (в его контексте ). Другое направление толкования определяется, наоборот, открытостью текста единству языка. Причем «язык» следует понимать максимально широко. Это культурный диалог, весь комплекс интертекстуальных связей произведения, а также «археологический» (ритуально-мифологический) подтекст как репертуар фундаментальных, трансисторических ситуаций человеческого существования.
Если принять мысль Г.-Г. Гадамера о том, что произведение искусства есть «символическая репрезентация жизни» (Х.-Г. Гадамер. Истина и метод. М., 1988. С. 114), то приходится задаться вопросом: на чем основана разница этих репрезентаций? Наш ответ на этот вопрос таков: фундамент всех модификаций художественных символов жизни – оценка . Это прежде всего «ДА» и «НЕТ» самой жизни. У Бергсона смех развертывается на границе искусства и жизни. По-видимому, все типы искусства (и эстетическое отношение вообще) существуют на границе с жизнью. В. В. Федоров, рассматривая повесть Л. Толстого «Три смерти», говорит об изображении своего рода «прения живота и смерти» (См.: В. В. Федоров. О природе поэтической реальности. М., 1984). Это наблюдение можно обобщить: любое произведение представляет собой такой спор жизни и смерти. «Жизнь» и «смерть» не только универсальные предметы изображения, но и способы оценки: оживление и убийство эстетические (например, героизация и сатира или сентиментальное «воскресение» и «убийственная» ирония). В искусстве что (содержание) и как (форма) сливаются в понятии «жизнь» и ее границы. Все модификации зависят от разницы содержания категории «жизнь» (resp. «смерть»), которое носит сугубо исторический характер.
Для подытоживания рассуждений о герменевтических параметрах события чтения рассмотрим рассказ Чехова «На святках».
Текст произведения композиционно делится на две пронумерованные части, в первой из которых описывается сочинение письма в деревне, а во второй – получение его в городе. Такое построение акцентирует внимание читателя на двух участках художественного пространства, связываемых в сюжете перемещением письма.
Иначе говоря, делению текста на два компонента соответствует разделенность художественного мира рассказа. Художественный мир всегда простирается как неоднородный, однако в рассматриваемом рассказе эта разделенность художественного мира на два – деревенский и городской – связана с отчуждением, с разлукой, попыткой преодоления которых и является письмо.
Понимание рассказа как художественного произведения осуществляется одновременно по двум указанным ранее параметрам. Образ письма понятен лишь как символический . Попытка игнорировать это обстоятельство приводит к замене интерпретации пересказом либо нравоучением. Читатель воспринимает этот образ в горизонте развертывающегося сюжета соединения , которое осуществляется вопреки определенным препятствиям. И напряженный характер такого развертывания как раз обнаруживает ценностный параметр чтения, авторскую оценку, которая выражается не прямо, а посредством поляризации образов произведения.
Название рассказа актуализирует категорию времени . Как только мы принимаем неслучайность хронологической подробности в названии – неизбежно обнаруживаются символический и ценностный аспекты художественного времени.
Эта хронологическая деталь указывает на праздник, который в тексте называется двумя ценностно неравнозначными способами: рождество (в первой главке) и Новый год (во второй). Первое отсылает к циклическому ходу времени, близкому природному, а второй относится к линейному , необратимому – историческому – времени (его символическим атрибутом является газета в руках швейцара). Первое – круговое – время в сюжете рассказа является временем воспоминания, идеального возвращения; линейное же время – это время забвения, ухода, разрыва. Этот разрыв дан в рассказе как разрыв поколений. Таким образом, понимание рассказа связано с демаркацией различных типов художественного времени: читатель оказывается в зоне их ценностного спора.
Целый слой образов связан с разобщенностью героев в пространстве , о чем уже говорилось: с одной стороны (в городе Петербурге) – дочь и ее семья, с другой (в деревне) – старики-родители.
Но сама разница этих участков художественного пространства – деревни , откуда идет письмо, и Петербурга , откуда перестали приходить письма, ведет к другой – внепространственной – смысловой плоскости. Деревня здесь оказывается полюсом близости природе . Как сказано в конце I главки, чтобы отправить письмо, надо идти пешком на станцию, до которой «одиннадцать верст». Когда дочь получает письмо из деревни, она первым делом вспоминает о снеге, которого «навалило под крыши», о поле, где «зайчики бегают», и так далее.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: