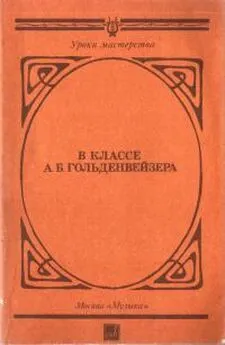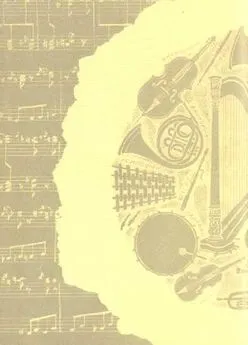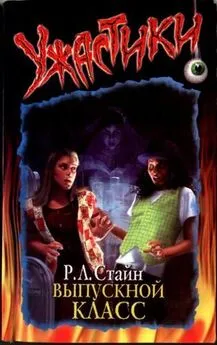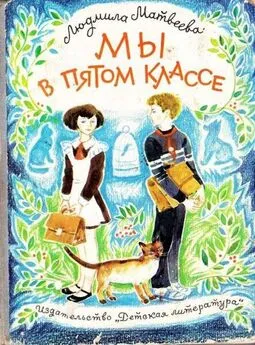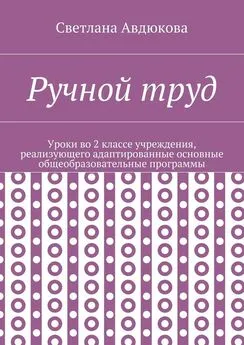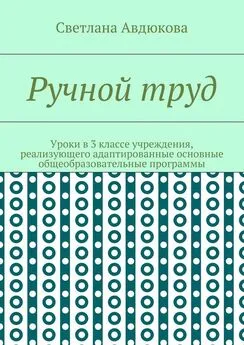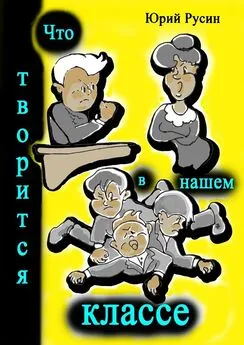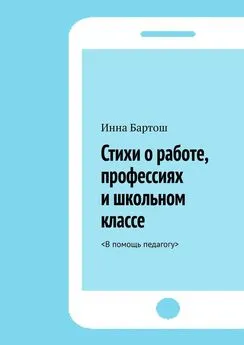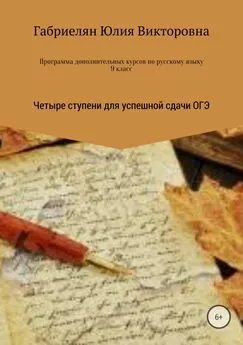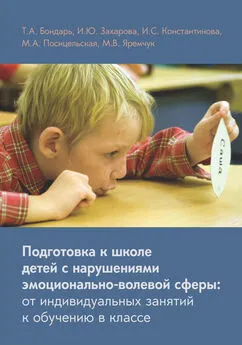Дмитрий Кабалевский - В классе А. Б. Гольденвейзера
- Название:В классе А. Б. Гольденвейзера
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Музыка
- Год:1986
- Город:М
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Кабалевский - В классе А. Б. Гольденвейзера краткое содержание
Адресовано пианистам — педагогам и учащимся; представляет интерес для широкого круга читателей, интересующихся музыкально-исполнительским искусством.
В классе А. Б. Гольденвейзера - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
МЫСЛИ О МУЗЫКЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ ИСКУССТВЕ И ФОРТЕПИАННОЙ ПЕДАГОГИКЕ
«Безгранично, как жизнь»
Искусство столь же безгранично, как сама жизнь; бесконечно многообразна и музыка — самое свободное из искусств, вмещающее крайние противоположности.
Сонаты Скарлатти — удивительная музыка! Вечно юная. Никакого элемента устарелости в ней нет. Это потому, что она теснейшим образом связана с народными корнями.
Стиль Моцарта отличается совершенно исключительным изяществом, чистотою и хрустальной прозрачностью. Прозрачность эта делает исполнение музыки Моцарта чрезвычайно трудным: любой неверный штрих, малейшая неточность сказываются как грубые ошибки, нарушающие стройность целого.
Удивительно! Чайковский написал массу прекрасных сочинений для фортепиано, вот хотя бы «Думка» — чудесное сочинение. Но как только начинаешь играть Глинку, так прежде всего чувствуешь, что это был первоклассный пианист, что он на клавиатуре как у себя дома: каждый пассаж, каждая фигура в высшей степени пианистичны.
Как только человек скажет себе, что он достиг цели, осуществил мечту, неминуемо кончится живое искусство.
«Обучение пианиста, воспитание музыканта и человека»
Музыкальное искусство — могущественнейшее средство воздействия, объединяющее людей; поэтому так важно приобщение к нему возможно большего их числа.
Почти каждый человек, за исключением глухих от рождения, обладает в той или иной мере музыкальностью и способностью ее развивать.
Учить играть на фортепиано — не механическое дело. Музыка тесно связана со всеми душевными переживаниями человека, в ней обязательно отражается его духовный мир. Обучение музыке неразрывно связано с воспитанием человека, воспитывать же другого можно только воспитывая самого себя.
Признаюсь, что, будучи человеком довольно начитанным, я, пожалуй, меньше всего начитан в области фортепианной педагогики. Однако в довольно все же многих прочитанных мною книгах я находил главным образом рассуждения об анатомии и физиологии, строении и работе различных мышц, о посадке и т. д., но не о музыке — том самом первом и главном, чем должен заниматься каждый исполнитель, каждый педагог.
Известны превосходные пианисты, обладавшие не очень хорошими руками (например, у Иосифа Гофмана была небольшая рука), стало быть, решающее значение имеют нервно-мозговые центры.
Бывают вещи, о которых часто говоришь, и иногда у меня появляется тайная надежда, что вот учится у меня несколько лет подряд хороший ученик, хорошо занимается, и случится в один прекрасный день чудо: придет ученик на урок, принесет новую вещь и сделает в ней сам то, о чем я столько раз твержу... Когда я что-нибудь говорю, это надо обобщать, а студенты часто следуют принципу: зачем изучать географию, когда есть на свете извозчики?
Хуже всего, когда ученик слепо следует указаниям педагога, а сам не думает. Такое подражание проповедуют те, кому подражать, во всяком случае, не следует.
Ничего не может быть труднее, чем обучать одаренного ученика, и глубоко неправы те, кто думает иначе. Не надо говорить: «Если бы ученики у меня были одареннее, тогда я их лучше бы учил»; правильнее сказать: «Если бы я учил лучше, то большему научил бы и самого бездарного ученика».
Ученик может простить педагогу вспышку гнева, раздражительность, но никогда — равнодушие.
Для каждого музыканта самым важным и необходимым свойством является слух. Музыкальный слух безусловно поддается развитию, и над этим надо работать, причем не только в классе сольфеджио, но буквально всю жизнь. Очень полезно петь с листа, аккомпанируя себе при этом, а также развивать «зрительный» слух — стараться слышать музыку, глядя в ноты, проверяя себя потом за инструментом. Упражнения эти надо постепенно усложнять.
Иногда ученик не может ответить на вопрос, в какой тональности написана пьеса, которую он играет. Тогда мне вспоминается: бывало, когда еще ходила конка, на Никитском бульваре играл оркестр, даже два оркестра — один в начале, другой посредине. Я однажды подошел к одному из игравших в оркестре солдат и спросил: «Что это вы играли?», а он мне ответил: «Четырнадцатый нумер»...
Детям свойственно играть слабым звуком так же, как говорить детским голосом. Поэтому опасно приучать их слишком рано добиваться полного звука — это приводит к напряжению, подгибанию пальцев и т. п.
Развитие самостоятельности учащихся должно начинаться как можно раньше. Очень вредной педагогической ошибкой я считаю «натаскивание» ученика, когда, проходя с ним какую-нибудь простенькую пьесу, от него стараются добиться всего на свете, вымучивая каждый такт, каждую ноту. Миллион делаемых при этом указаний в состоянии только запутать учащегося. Между тем чем раньше освободить его от «помочей», тем лучше.
В репертуаре учащихся следует опасаться как слишком трудных, так и слишком легких вещей. Я обычно даю ученикам пьесы немного легче их возможностей, но иногда дам вещь значительно труднее; так, если больному предписана строгая диета, он шесть дней ее соблюдает, а на седьмой ему разрешают ее нарушить, и это нередко дает хорошие результаты.
Надо давать репертуар, так сказать, «в сторону наибольшего сопротивления», то есть такой, который помогает преодолению слабых сторон учащегося. Однако для выступления в концерте или на экзамене нельзя подбирать репертуар из подобных вещей, это может нанести ученику только травму. Надо приготовить такие произведения, которые он может хорошо сыграть.
Бывает, что ученик вроде бы и может сыграть трудное для него сочинение, но часто это как-то «изнашивает» его душу. Мне кажется, что нередко феноменально одаренные дети становились впоследствии далеко не тем, чем обещали стать, именно потому, что их недостаточно берегли в детстве.
Неприятно, когда после исполнения учеником какой-нибудь вещи слушатели говорят: «Когда он будет лет на пять старше, он это хорошо сыграет...»
Однажды ко мне привезли из Киева очень талантливую девочку. Она сыграла мне b-moll'ное скерцо Шопена технически неплохо, но грязновато, с избытком педали. Я прошел с ней все пятьдесят этюдов Черни 740 op. так, что в один прекрасный день она могла сыграть любой из них на выбор... Девочкой этой была Роза Тамаркина.
Одна до конца доделанная вещь в тысячу раз полезнее, чем пятнадцать недоделанных; нет ничего вреднее кидания от одной пьесы к другой. Каждое сочинение только тогда следует оставить, когда оно доведено до возможной степени совершенства.
Порою мне кажется, что у своих учеников я научился большему, чем у своих учителей.
«Служить автору и оставаться самим собой»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: