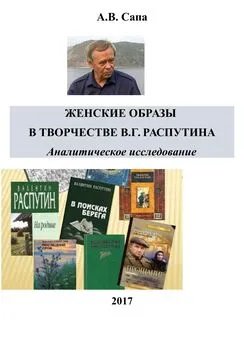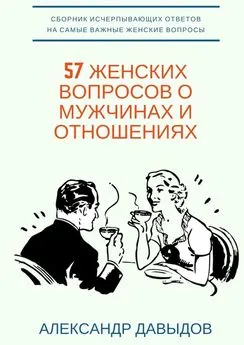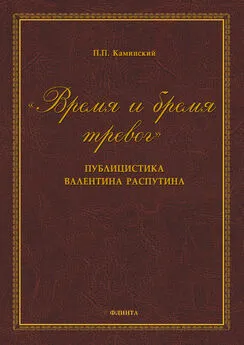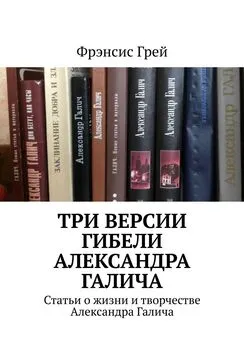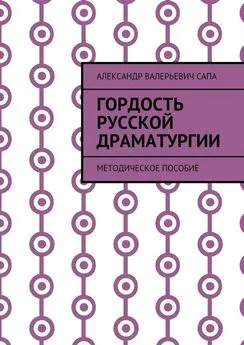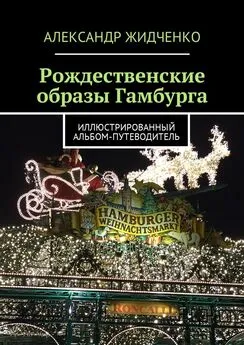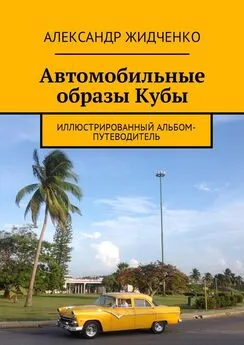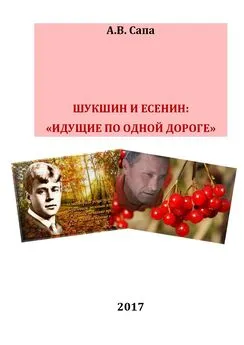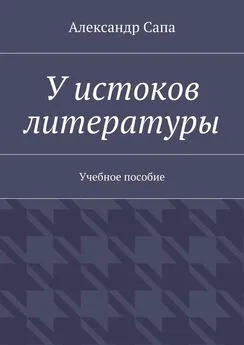Александр Сапа - Женские образы в творчестве Валентина Распутина
- Название:Женские образы в творчестве Валентина Распутина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array SelfPub.ru
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Сапа - Женские образы в творчестве Валентина Распутина краткое содержание
Женские образы в творчестве Валентина Распутина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
же в «Прощании с Матёрой» началось закрепление слова-символа «изба» в значении «Россия», «родина» (а то и шире – «вселенная»). С символикой деревенской реалии, с символикой слова связан притчевый пласт
рассказа
Распутина
«Изба» (1999).
Но, конечно, самым крепким, смыслообразующим, связующим этот рассказ со всем творчеством Распутина является пласт житийный, связанный прежде всего с образом
крестьянки Агафьи
– ещё одной (последней) праведницы в творчестве писателя.
Рассказ «Изба» тематически близок повестям «Прощание с Матёрой» и «Пожар», но «интонирован» 90-ми годами: если события повестей выглядели как драма, то в рассказе последствия этих событий видятся как трагедия. За ними – и погубленная природа, и сломанные судьбы. И Распутин рассказывает, к чему через сорок лет привело это волюнтаристское переселение, теперь ещё помноженное на наши «новые времена».
Всё просто и даже незамысловато в этом рассказе. Сселяют с одной низменной стороны Ангары деревни, хутора в одно большое поселение на другой возвышенный берег реки. Спасают от затопления. Кто-то уезжает, кто-то восстанавливает или возводит новые дома. А что делать старым, слабым, немощным, одиноким женщинам?
Центральным образом рассказа и является такая одинокая женщина пятидесяти лет – Агафья. До затопления ангарского берега она жила в деревне Криволуцкой, где «Агафьин род Вологжиных обосновался с самого начала и прожил два с половиной столетия, пустив корень на полдеревни». Теперь, когда надо переселяться с родных мест, Агафья находится в последней степени отчаяния. Кажется, нет никаких сил начинать новую стройку: муж давно погиб, дочь, уехав в город, спилась. Да и сама Агафья – старая, больная, одинокая женщина, от боли и работы рано потускневшая, состарившаяся и к сорока годам оставшаяся «в родительском доме одинёшенька». «Была она высокая, жилистая, с узким лицом и большими пытливыми глазами, – описывает Агафью Распутин. – Ходила в тёмном, по летам не снимала с ног самошитые кожаные чирки, по зимам – катанки. Ни зимой, ни летом не вылезала из телогрейки… Всегда торопясь, везде поспевая, научилась ходить быстро, прибежкой. Говорила с хрипотцой… Рано она плюнула на женщину в себе…, раз и навсегда высушила слёзы и не умела утешать… Умела она справлять любую мужскую работу…» [31, т.2, с.326]. Да и болезнь у неё была одна, приобретённая за годы тяжёлой мужской работы, – «надсада», которая и помешала Агафье поселиться на улице вместе с односельчанами (пока была в больнице, на улице в новом посёлке для её избы места не осталось). Но велика естественная, нравственная природа крестьянина, русского человека – «Умирать собираешься, а рожь сей». Агафья перевозит брёвна своей избы и начинает воздвигать, другого слова и не подберёшь, Избу. «Да, воздвигать, а как скажешь? Строить? Но это ведь, когда всё налажено, организовано, всем миром. А когда одна, без надежды на помощь, лишь на Божью волю – это воздвигать!» – восклицает В.Ганичев. – Ибо для неё построить избу – это всё равно, что Хеопсу вознести пирамиду, а Семирамиде – сады. Где нашлись силы, где заложен дух, как удалось поставить над Ангарой сие творение?» [7, с.11].
Не зря люди называют её «отчаянной бабой», алчной до работы. Кроме этого, она – Вологжина, преемница рода, который «пустил корень на полдеревни». Во многим этим объясняется в рассказе сила характера, упорство, подвижничество Агафьи, возводящей на новом месте свою хоромину, избу, именем которой и назван рассказ. «И принялась Агафья ворочать брёвнышки в одиночку. Попробовала – ничего: тянем-потянем – вытянем. Она была уже не та, что воротилась из больницы: не дрожали… от натуги руки, пугающая эта дрожь не перебрасывалась на лицо, набралась терпения поясница…» Но «оживали брёвнышки, врастая в одну плоть, начинали дышать…» и «уже поверила она, что будет зимовать в своей избушке… Всего боялась, а между тем сердце стучало всё ровней и уверенней, всё снисходительней к этим страхам… У Агафьи перепутались дни, принялись, оттесняя ночи, наползать один на другой… Она перестала чувствовать своё тело… Кроме своей избы она больше ничего не видела…; оглядываясь на посёлок…, прислушиваясь к стукотку топоров, визгу пил, она забывалась до того, что во всём ей мерещилась своя изба… она стала потеть и выострилась грудью вперёд. Сама себе говорила…: «А ведь ты, девка, лопнешь, ежели не дашь себе продыху…» И сама же себе отвечала: «… Я посредь воза никогда не лопну. Не имею такого права» [46, т.2, с.339-342].
Но когда-то и великому терпению приходит конец. Агафья слегла, «надорвалась», по словам Савелия, «споткнулась» – так поставила себе диагноз сама Агафья. Описывая Агафью во время болезни, Распутин намеренно сопоставляет её с тургеневской Лукерьей из «Живых мощей». Обе героини любят песни – в них изливает душа свою печаль, обе никогда не жалуются, не напрашиваются на участие – знают, что другие живут ещё труднее. Обе знают минуты той особой тишины, того особого душевного покоя и лёгкости, которые даются праведницам (Лукерья: «Придет, словно как тучка, прольется, свежо так, хорошо станет, а что такое было – не поймешь!» Агафья: «Над ее, Агафьиной избой, висело тонкое, прозрачное зарево из солнечного и лунного света». «Ну и поживу ишо, – оброчно и радостно думала Агафья, соглашаясь с чем-то, нахлынувшим на нее с такой легкостью, что не осталось и следа. – Ой, да че ж не пожить-то, ежели так!»).
Сравнение портрета Агафьи с портретом тургеневской Лукерьи («Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая – ни дать ни взять икона старинного письма; нос узкий, как лезвие ножа; губ почти не видать – только губы белеют и глаза…») помогает заметить сходство в изображении двух женщин, сравнение их ликов с иконой и понять, что в судьбе Агафьи как далекое эхо отзывается судьба тургеневской героини, праведницы, страстотерпицы, во всем полагающейся на волю Божью.
А дальше идут отличия; Агафья вся в движении, в действии. «Я вся на бегу», – скажет она Савелию, задумавшему подсвататься к ней. Неграмотной Агафье (она разучилась писать за ненадобностью) кажется, что человеческая жизнь все больше «выкореняется» на берегах Ангары, что скоро новая «смекалистая» жизнь последних десятилетий выдуется в воздух. Но благородная крестьянская привычка к труду сильнее, и она уже через три дня после начала болезни вместе с Савелием кроет крышу, а далее вплоть до зимы – «скорей, скорей к избе», «не успевала закончить одно дело, а руки уже просили другое».
Строит, как будто повторяет подвиг монахов, таскавших на себе бревна через реку для постройки церкви, повторяет подвиг Сергия Радонежского.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: