Журнал «Знание-сила» - Знание-сила 1998 № 06(852)
- Название:Знание-сила 1998 № 06(852)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1998
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Журнал «Знание-сила» - Знание-сила 1998 № 06(852) краткое содержание
Знание-сила 1998 № 06(852) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В соответствии с квантовой механикой электрон в атоме образует облако вокруг ядра, иными словами невозможно точно определить положение частицы. Недавно польские физики высказали предположение. что иногда электрон может существовать в «троянском» состоянии, то есть занимать небольшой участок орбиты, в точности, как планета. Название возникло благодаря астероидам Трояна, которые вращаются вокруг Солнца по той же орбите, что и Юпитер, — немного впереди и немного позади планеты.
Вначале при помощи лазера орбита электрона сужается до узенького кольца, а потом уже пучком микроволн кольцо сжимается в «сосиску», вращающуюся вокруг ядра. В этом процессе всегда есть вероятность сорвать электрон с орбиты или же перебросить его на более близкую к ядру орбиту, поэтому наблюдать «троянское» состояние невероятно трудно.
Дробные размерности — это прекрасно, может сказать здесь читатель, по какое отношение они имеют к вопросу о числе измерений мира, в котором мы живем? Может ли случиться, что размерность мира дробная и не точно равна трем?
Примеры кривой Пеано и побережья Норвегии показывают, что дробная размерность получается, если кривая линия сильно «скомкана», заложена в бесконечно малые складочки. Процесс определения дробной размерности тоже включает в себя использование безгранично уменьшающихся «булыжников», которыми мы покрываем изучаемую кривую. Поэтому дробная размерность, выражаясь научно, может проявляться только «на достаточно малых масштабах», то есть показатель степени в соотношении, связывающем число «булыжников» с их размером, может лишь в пределе выходить на свое дробное значение. Наоборот, одним огромным булыжником можно накрыть фрактал — объект дробной размерности: конечных размеров неотличим от точки.
Для нас мир, в котором мы живем, — это прежде всего тот масштаб, на котором он доступен нам в повседневной действительности. Несмотря на поразительные достижения техники, его характерные размеры все еще определяются остротой нашего зрения и дальностью наших пеших прогулок, характерные промежутки времени — быстротой нашей реакции и Шубиной нашей памяти, характерные величины энергии—силой тех взаимодействий, в которые вступает наше тело с окружающими вещами. Мы ненамного превзошли здесь древних, да и стоит ли стремиться к этому? Природные и технологические катастрофы несколько расширяют масштабы «нашей» действительности, но не делают их космическими. Микромир тем более недоступен в нашей повседневной жизни. Открытый перед нами мир — трехмерный, «гладкий» и «плоский», он прекрасно описывается геометрией древних греков; достижения науки в конечном счете должны служить не столько расширению, сколько защите его границ.
Так что же все-таки ответить людям, ждущим открытия скрытых размерностей нашего мира? Увы, единственное доступное для нас измерение, которое мир имеет сверх трех пространственных, — это время. Мало это или много, старо или ново, чудесно или обыденно? Время — это просто четвертая степень свободы, и воспользоваться ею можно очень по-разному. Вспомним еще раз того же Штирлица, кстати, физика по образованию: у каждого мгновенья свой резон... •
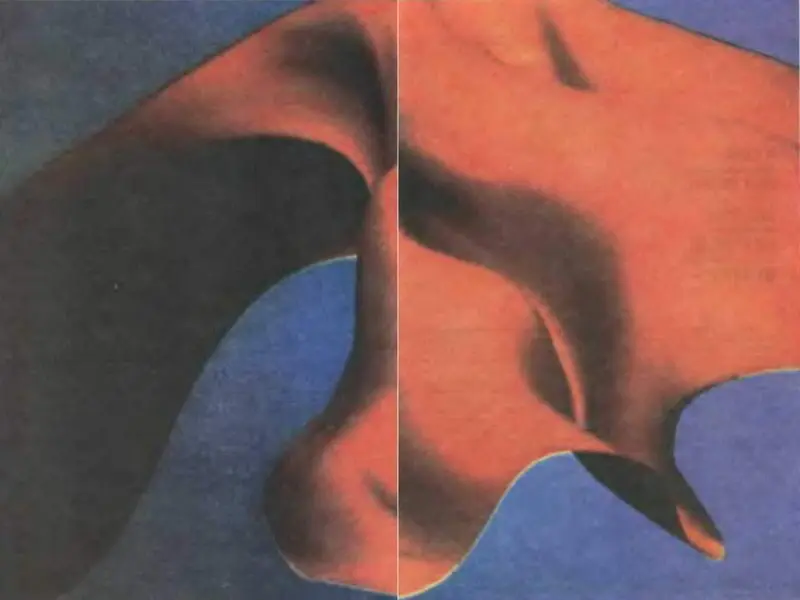
• Франк О'Гери. Из проекта дома Левиса, или Виртуальная Анатомия Гиперструктуры
Сергей Смирнов
Куда мы идем сквозь научные дебри?
Давно замечено, что любое предсказание будущего или прошлого оказывается неверной экстраполяцией настоящего. Ибо каждый прогнозист глядит со своей родной колокольни в свою любимую сторону, стараясь не мешать коллегам делать то же самое. А что получится в итоге общих усилий — не нашего ума дело; это решает Природа, ей видней!
Что она, Природа, — большая дура, ничего не видит и не понимает (не имея ни глаз, ни мозгов), об этом в ученом мире все знают, но не говорят — из вежливости. Оттого один мудрей деловито прогнозирует стихийное развитие тех средств, при помощи которых ученое сословие решает свои очередные задачи, не размышляя о том, какие задачи стоят в очереди за только что решенными. Другой специалист столь же деловито предрекает самые насущные проблемы грядущих лет и десятилетий, не задумываясь о возможных средствах их решения и о той цене, которую придется заплатить за такое решение. Короче говоря, сами прогнозисты не образуют ценоза и потому регулярно терпят неудачи в прогнозах стихийной эволюции ценоза, состоящего из научных моделей и проблем. Так было, так есть — и, видимо, так будет до скончания научных веков.
Например, в начале XX века возникла Большая Наука (по запросам Большой Технологии); в конце того же века она вновь сморщилась до Малой Науки — вследствие соревнования Больших Держав, которое завершилось Большим Разорением всего человечества и окружающей нас Природы. К сожалению, никто не предвидел ни первого, ни второго из этих событий, а если предвидел, то ему не поверили или не приняли всерьез, а он никого не сумел убедить в своей правоте.
То же самое можно сказать о двух прогнозах, которые нам предлагают один физик и один геометр. Их объединяет вера в неограниченные возможности дешевой теоретической науки, которую не может остановить ни финансовый, ни экологический кризис. Физик толкует, как можно было угадать основы теории относительности и квантовой механики за сто или двести лет до Альберта Эйнштейна, Эммы Нетер и Вернера Гайзенберга. Чего же не хватило? Вот этих самых гениев и не хватило! Были и тогда богатыри: Эйлер, Мопертюи, Лагранж, Кавендиш. Да вот бела — увлекались они не тем, чем следовало бы увлечься ради процветания ньютоновой механики и ее дочерних теорий.
А что говорит геометр? Он объясняет нам, какое великое будущее ждет геометрическую физику в XXI веке, если новые теоретики займутся геометрией фракталов столь же самозабвенно, как Эйнштейн и Минковский занимались геометрией евклидовых пространств в начале нашего века. Но вот вопрос: займутся ли? Если да, то с какой стати? А если нет, то чем иным они увлекутся, и по какой причине? Вот главная проблема современной (да и прежней) науки: стимулы творческой деятельности самых талантливых ученых. В какой мере они доступны моделированию, а на его основе — прогнозированию, или разумному управлению?
Кстати, неразумному управлению они вполне доступны! Стоило кавказскому разбойнику Сталину встать во главе России и затеять соревнование с разбойниками Европы, как в России развилась замечательная авиационная наука, которая быстро переросла в космические исследования, охватила астрофизику, породила кибернетику — и так далее. А стоило разбойничьему режиму обанкротиться, как власть перешла к наивным экономистам, которые не способны оценить в рублях ни качество российской биосферы, ни качество умов ученых россиян, ни динамику воспроизводства того и другого ценоза...
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:








