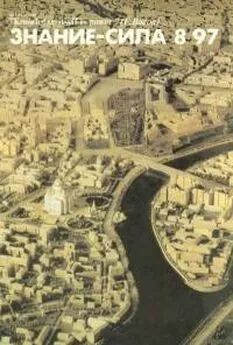Журнал «Знание-сила» - Знание-сила, 1997 № 08 (842)
- Название:Знание-сила, 1997 № 08 (842)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1997
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Журнал «Знание-сила» - Знание-сила, 1997 № 08 (842) краткое содержание
Знание-сила, 1997 № 08 (842) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И еще один интересный вывод делают ученые, исследовавшие действие гена СРР. СРР оказался мышиным аналогом гена «сед» примитивного червя, и потому они высказывают мнение, что «машина эмбрионального развития эволю- ционно постоянна, начиная от кэнорабдитис элеганс и кончая мышью». И здесь, думается, открывается поле исследований для физиков, которые должны найти те квантовые механизмы, которые вот уже на протяжении миллиардов лет стабильны и неизменны. И которым должны подчиняться клетки всех организмов разных ступеней эволюционной лестницы.
Вот какие мысли родились у меня по прочтении очень интересного и инфор- моемкого интервью М. Азбеля. •
Юрий Лексин, наш специальный корреспондент
Подполз,
увидел,
ошалел
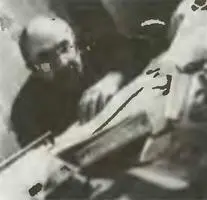
Тихо зачахнув во всем мире, этология — наука о поведении животных — решила выбрать для своего возрождения Россию, а в ней — Женю Панова. Официально: доктора биологических наук Панова Евгения Николаевича. Человека, подстать животным, непростого поведения.
Мышления — тоже.
Может, потому и выбран?

— Хочешь, расскажу, как я сделал великое открытие?
V меня в избе в деревне комары. Тучи, просто тучи. Но я никак не мог понять, откуда же они берутся? Обследовал все — нигде ни одной дыры. А они кусаются свирепо, ничего делать невозможно, только успеваешь отбиваться. Я все думаю: откуда же? Полез на чердак — там их нет. Лезу в подвал — там окошечки такие, думаю, они в эти окошечки, а потом через щели в полу — и в избу. Хрен-то, нету! Их нет и щелей нет. Излазил все — без толку.
И вдруг... Я же, естественно, там под пологом сплю, иначе загрызут. Лежу как-то под пологом, а в нем дырочка маленькая. Вижу, комар летит с той стороны, парит и — шасть в эту дырочку! Ясно, что он ориентируется на ток теплого воздуха. Вот тут-то я и подумал про трубу.
— Но ведь там задвижка, не пролететь.
— Да что комару задвижка? Он же во... Нет, я эксперимент сделал. Сначала — у меня были таблетки — я всех в избе комаров убил. Они мгновенно полегли. Ни одного нет. Потом марлей затянул все отверстия на печке — топку, то место, где задвижка, и у меня еще камин там, и его затянул большой марлей- Все! Лег и стал ждать.
Через два часа очнулся от дикого гудения. Через трубу они тучей вышли на марлю, облепили ее сплошь. Дальше — ни шагу. И все! И сейчас у меня в избе нет ни одного комара.
Но ни одному нормальному человеку я там не могу объяснить, почему их у меня нет. Начинаю кому-то из деревенских рассказывать — не может этого быть, говорят. Как же так — изба и без комаров? И продолжают мучиться с ними. А у меня нету! Вот это и есть чистый эксперимент.
— А печку-то не топишь совсем?
— Когда топлю, они не могут залететь, горячо им.
— А может, они к тем, кто удивляется твоему рассказу, как-то по-другому попадают?
— Может, у кого и есть что-то другое, но труба-то для них — оптимальный вариант, отличная теплая дорога. Влететь через дверь, надо еще подумать, зачем лететь. Комар-то такое существо, что не очень соображает Как он в избу попадает? Он же не сам. Ты заходишь, он на тебя садится и вместе с тобой туда заезжает. Но так проникает ничтожный процент. А в основном они идут по проторенной дороге: летят себе в теплом потоке и ловят кайф. Смеешься,.. А вот это и есть чистый эксперимент.
— Да не смеюсь я Просто приятно, с каким напором ты говоришь. А с ослами- то как все началось?
— Все одинаково начинается: обратил ты неожиданно на что-то внимание — и пошло. На Огурчинском когда-то туркмены жили, потом остров заняли военные. Туркмен выселили, а ослы остались. И одичали. Но мы тогда там чайками занимались, не до ослов было. А однажды прямо в наш лагерь пришел старый осел. Постоял и ушел. Но это было нечто поразительное. Весь белый. Нет, даже не белый — от старости серый. С откушенным ухом, весь в жутких ранах. Старый боец, всю жизнь провел в драках и остался жив. Другое ухо тоже рваное. И хвост откушен. Что-то страшное. Они ж дерутся жутко. Кусаются, копытами молотят друг друга. Но тогда мы про их драки еще ничего не знали. Тот старикан ходил один. Видно, жизнь прожил такую, что не позавидуешь. А может, наоборот... Потом он исчез. И хотя остров небольшой — сорок километров в длину да в ширину километров до трех, в общем кишка такая, мы его так и не нашли. Но это потом. Сначала он поразил нас. Мы ж ничего не знали тогда. Откуда, например, такие раны могут появляться? Эти уши обломанные, хвост, а еще и плечи изгрызаны, на ляжках тоже покусы. У нас не было ощущения, что эти животные могут так свирепо драться, чтобы до таких бешеных ран... До этого мы не видели никаких столкновений. Значит, надо было садиться и смотреть.
Осла одомашнивали тысячелетия, а тут он предоставлен сам себе. Насколько он возвратился к своему дикому состоянию, возвратился ли? В общем, мы залегли с биноклями на весь май.
Но идея-то в том, что совсем не важно, кем заниматься, когда наблюдать. Как было в додарвиновские времена... Пошел Кювье или Бюффон, увидел, что зубр дерево грызет, и описал. Науки тут, конечно, никакой. Вот статистику набрать — огромную, точную,— тогда что-то может появиться.
С другой стороны, как один человек недавно сказал: в зоологии сейчас начался век персонализации. То есть нынче уважающий себя этолог не станет заниматься повелением животных отвлеченно, как группой самок, например, или самцов. Сейчас всех метят. И не то что крупных, а тех же жуков, кузнечиков. То есть работают с популяциями, где уже известна каждая особь. Да и не интересно наблюдать, пока не начнешь опознавать всех индивидуально. Вот тогда для тебя и начинает что-то происходить. А как они живут, чем и где, это лишь первые два-три года. Самое интересное потом. Как идет смена поколений? Как растут детеныши? Как они осваивают пространство? Как занимают потом уже собственную территорию?
Но беда в том, что все это непросто. Вот ты понял границы территории, пометил популяцию, узнаешь наконец всех, и тут ни с того ни с сего приходит какой-то немеченый чужак, покрутился чего-то — и нет его. А кто он и что все это значит — загадка.
Так было и с ослами. Вначале надо было провести простую инвентаризацию. Их там штук семьдесят. Зарисовываем каждого. Правда, некоторых и зарисовывать не надо, узнаешь сразу, как того старикана. Но в той популяции было очень много белых. Попадались и с желтоватым налетом. Так что непонятно: может, они и грязные. Как белый медведь, он же не белый — желтоватый. Но я потом сравнивал своих островных ослов с материковыми. Там белых процентов десять, а на Огурчинском — все семьдесят. Это какой-то островной эффект, своя генетика.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: