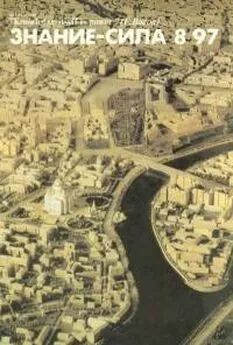Журнал «Знание-сила» - Знание-сила, 1997 № 08 (842)
- Название:Знание-сила, 1997 № 08 (842)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1997
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Журнал «Знание-сила» - Знание-сила, 1997 № 08 (842) краткое содержание
Знание-сила, 1997 № 08 (842) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— И как же она выглядит?
— Смотрите, один из результатов моей работы показывает, что у простейших организмов скорость деления клеток (в зависимости от массы) поразительно согласуется с продолжительностью жизни (которая, как я уже говорил, тоже зависит от массы). Исходя из этого, можно — разумеется, со всей осторожностью — высказать предположение, что процесс деления каким-то образом блокирует или устраняет поврежденные «молекулы смерти», что и приводит к увеличению срока отпущенной организму жизни. Я не знаю, как это происходит. Может быть, в процессе такого деления клетка отбрасывает уже поврежденные «ключевые элементы». А может быть, они концентрируются только в одной из дочерних клеток, и она быстро погибает, а другая зато оказывается снова «чистой» и потому более долгоживущей. В любом случае я предлагаю экспериментаторам: присмотритесь к деталям клеточного деления. Проверьте, одинаковы ли в смысле набора элементов обе дочерние клетки. Не выбрасывается ли при таком делении «что-то» поврежденное в окружающую среду. Любой ответ поможет нам понять, каким образом эволюция справляется с повреждениями «клеток смерти» на уровне простейших организмов. А это, быть может, позволит воспроизвести такие же механизмы и на более сложном уровне...
На этой оптимистической ноте закончим. Скажем так: гипотеза старения и смерти, предложенная профессором Аз- белем, несомненно, представляется радикально новой. Она указывает конкретный путь к постижению загадки смерти и, возможно, преодолению ее, что звучит уже совсем фантастически. Весь вопрос в том, является ли она верной. Как говорит он сам, ответить на этот вопрос могут только конкретные эксперименты. Поэтому придется подождать, что скажут биологи. Но нам ведь и некуда торопиться. Тема эта вечно актуальна. •
Игорь Лалаянц
Биолог: ищите ген
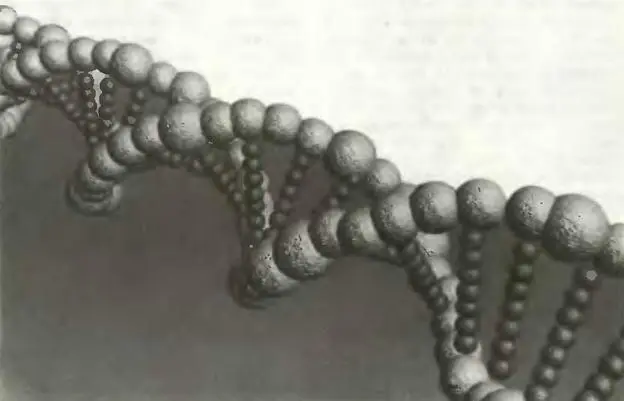
Кто хоть раз видел это архитектурное чудо, не забудет его вовек. Это не пирамиды Гизы, далеко водимые в жарком мареве пустыни. Майские пирамиды мексиканского полуострова Юкатан вырастают величественными глыбами средь зеленого моря буйной тропической растительности. Эти влажные леса от макушек деревьев до прикорневой подстилки насыщены самыми разнообразными формами жизни, волнами почти что вечного прибоя омывающей подножия гигантских сооружений из известняковых блоков (тоже, впрочем, продуктов жизни).
Видение это встает каждый раз, когда на ум приходит сравнение физики и физиологии. Греки в свое время не делили окружающий их мир, природу на живое и неживое, что и отразилось в использовании одного и того же слова «физис». И Платон вполне убежденно полагал, что мы видим благодаря свету, исходящему из наших глаз, а Аристотель говорил, что сильный запах может убить животное.
Но так уж получилось исторически, что физика в новое время вырвалась вперед, а биология влачилась вослед ей. Поскольку прогресс последней всегда был обусловлен инструментальными новшествами, созданными физиками Трудно сейчас представить себе науку о живом и медицину в том числе без микроскопа, усовершенствованного Аббе, а цитологию XX века без электронного микроскопа, созданного немецкими физиками тридцатых годов.
То же относится и к генетике. Хотя ее начинал опосредованно монах, интересовавшийся метеорологией и атмосферной оптикой, все же реальный прогресс этой теоретической и практической дисциплины наступил тогда, когда в нее пришли физики. Имен и примеров тому не счесть. И в данном случае мы имеем еще один.
Впрочем, «базальные» принципы физики и биологии, объекты их исследования имеют разную природу. Точные науки сродни небоскребу или пирамиде, построенным на жестких принципах и немногих аксиомах. А жизнь подобна киселю, растекающемуся по поверхности и постоянно ускользающему сквозь пальцы. Уж сколько раз многие пытались дать ей и смерти определение, и каждый раз их подстерегало фиаско.
В существовании подобного «принципа неопределенности» биологии и кроется ее сложность. Мы во многом вынуждены перестраивать свое мышление каждые десять, если не меньше лет, занимаясь клетками, вирусами, белками и нуклеиновыми кислотами. Сейчас уже никто в здравом уме не думает давать определение жизни. И даже смерть, с которой вроде бы все ясно и понятно, все как-то ускользает из риторических рамок дефиниций.
Подобно Оруэллу с его новоязом, мы можем заявить, что жизнь — это смерть, и наоборот. Место, где действительно сходятся физика и биология,— это ген. Клетки представляются уж очень большими сложностями, чтобы их можно было адекватно анализировать. А вот ген более постоянен и функционален, в нем больше определенности. Поэтому далее соглашаться с Азбелем и подкреплять его мысли я буду именно с позиций того, что мы знаем сегодня о тех или иных генах, в частности, о генах смерти, без которых невозможна, как это ни может показаться парадоксальным, жизнь организма.
Организм должен убивать отдельные клетки, чтобы поддерживать свою жизнеспособность. Это уже давно стало парадигмой иммунологии, которая знает, что ежедневно в нашем организме убиваются сотни тысяч, если не миллионы лимфоцитов, которые по своей генетической комбинации могут атаковывать собственные клетки, вызывая аллергии и другие гораздо более опасные иммунные расстройства и иммунодефициты. Но и в этом случае ключевой механизм, вызывающий гибель клеток,— гены.
Сегодня биология приучается мыслить физическими категориями числа и воспроизводимости. И в этом отношении нет ничего более продуктивного, чем генетический подход. Уж очень хорошо гены все проясняют. Приведу всего лишь пару примеров из одной области.
Есть уже много кандидатов на роль «гена смерти», взять тот же ген белка р53. В стрессовых ситуациях, например при повреждении ДНК в результате ультрафиолетового облучения, он запускает программу апоптоза, то есть смерти клетки. И мы после активного загара облезаем, сбрасывая апоптический эпидермис.
Недавно открыт ген «вся», кодирующий белок, который находится в мембране, оболочке иммунной клетки. Этот белок является улавливателем разного рода иммунных сигналов. Анализ белка показал, что у него имеется особый цитоплазматический участок — домен, который получил название «домен смерти», поскольку запускает апоптоз. После получения сигнала смерть наступает через 24—48 часов. Ген проявляет свою функцию в селезенке и тимусе, то есть там, где постоянно происходит гибель иммунных клеток, «настроенных» против белков собственного организма.
Это у нас. А у почвенного червя «кэнорабдитис элеганс» есть свой ген — «сед» (от английского «селл дет» — клеточная смерть). У мыши обнаружен аналог гена «сед», получивший сокращенное название СРР (буквы латинские). Отключение гена СРР приводит к резкому уменьшению апоптоза в ходе эмбрионального развития мышонка. Удивительно последствие выключения механизма клеточной смерти: это не удлинение жизни, как можно было бы предполагать, исходя из обычной логики, а преждевременная смерть мышат вскоре после рождения. Вот где Оруэлл развернулся бы!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: