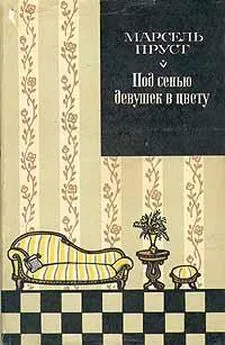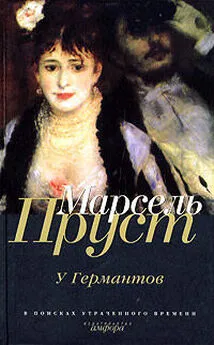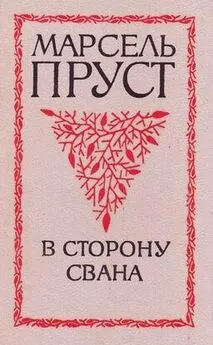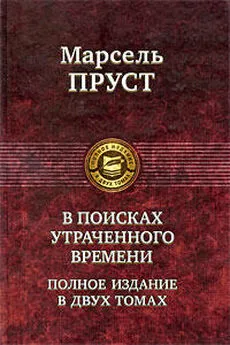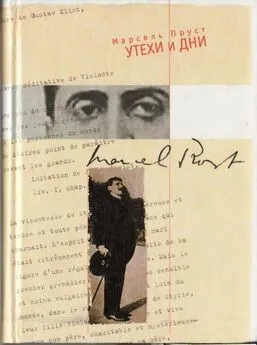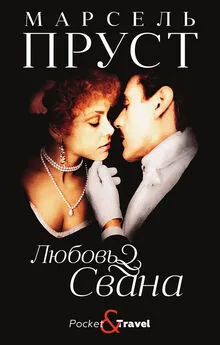Марсель Пруст - Сторона Германтов
- Название:Сторона Германтов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иностранка
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-18722-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марсель Пруст - Сторона Германтов краткое содержание
Читателю предстоит оценить блистательный перевод Елены Баевской, который опровергает печально устоявшееся мнение о том, что Пруст — почтенный, интеллектуальный, но скучный автор.
Сторона Германтов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Бабушкин деверь, которого я не знал, был монахом; он телеграфировал в Австрию, где в то время находился глава его ордена, и в виде исключительной милости получил разрешение приехать к нам. Удрученный горем, он читал у постели молитвы, не отрывая, однако, цепкого взгляда от больной. В какой-то момент, когда бабушка была без сознания, сердце у меня сжалось от жалости к святому отцу и я на него посмотрел. Мое сочувствие его, кажется, удивило, и тут произошло нечто странное. Он закрыл лицо руками, как человек, погруженный в горестные размышления, но я видел, как, догадываясь, что сейчас я отведу от него глаза, он оставил маленькую щелочку между пальцев. И в тот самый миг, когда я от него отворачивался, меня из этого укрытия пронзил его острый глаз, проверявший, искренне ли я горюю. Он следил за мной, словно спрятавшись в полумраке исповедальни. Заметив, что я его вижу, он тут же плотно сомкнул приоткрытую решетку. Позже я виделся с ним, но никогда у нас не заходил разговор о той минуте. Мы заключили молчаливый договор о том, что я ничего не заметил. В духовном лице, как и в психиатре, всегда есть что-то общее со следователем. Впрочем, вспомним хоть самого любимого друга, неужели в нашем с ним общем прошлом не найдется минут, о которых мы предпочли себя уговорить, что он их наверняка забыл?
Врач сделал укол морфия и, чтобы бабушке было не так тяжело дышать, распорядился доставить баллоны с кислородом. Мама, доктор, сестра милосердия держали их в руках, и как только один кончался, им подавали другой. Я на минуту вышел из комнаты. Вернувшись, я застал настоящее чудо. Под непрерывный аккомпанемент тихого шипения бабушка словно пела нам бесконечную радостную песнь, и песнь эта, быстрая и мелодичная, наполняла всю комнату. Я быстро догадался, что эти звуки были даже не бессознательные, а такие же чисто механические, как недавнее хрипение. Быть может, они лишь слегка отражали облегчение, доставленное морфием. Но в основном регистр дыхания изменился оттого, что воздух по-другому проходил через бронхи. Благодаря двойному воздействию кислорода и морфия бабушкино дыхание освободилось и теперь не надрывалось, не стонало, а проворно и легко проскальзывало навстречу волшебному газу. Быть может, в этой ее песни к вдохам и выдохам, безотчетным, как ветер, играющий на флейте тростника, примешивались и более человеческие вздохи, из-за которых могло показаться, будто тот, кто уже ничего не чувствует, по-прежнему страдает или блаженствует; и от этого становилась еще мелодичнее эта долгая, неизменно ритмичная фраза, что взлетала все выше, выше, а потом стихала и вновь рвалась из груди, получившей облегченье благодаря кислороду. Потом, взлетев на такую высоту, излившись с такой силой, эта песнь вбирала в себя умоляющий шепот, превращалась в стон наслажденья, и вдруг совсем умолкала, словно оскудевший источник.
Когда у Франсуазы случалось большое горе, у нее возникала совершенно бессмысленная потребность его как-то выразить, но ей не хватало на это самых простых слов. Полагая, что с бабушкой уже все кончено, она жаждала поделиться с нами своими переживаниями. Но она только и могла что повторять: «Что-то худо мне», тем же тоном, каким, бывало, объевшись супом с капустой, говорила: «Что-то у меня в желудке ком стоит», и в обоих случаях это у нее звучало естественней, чем ей представлялось. Она не умела как следует выразить свое горе, но от этого ей было ничуть не легче, тем более что горе усугублялось досадой на то, что ее дочка застряла в Комбре (который эта юная парижанка именовала теперь «Комбрехой», чувствуя, что сама становится там «распустехой») и, скорее всего, не сумеет приехать на церемонию похорон, которая, как предвидела Франсуаза, будет воистину великолепна. Зная, что мы не слишком склонны к излияниям, она на всякий случай заранее призвала Жюпьена на все вечера этой недели. Она знала, что во время погребения он будет занят. Ей хотелось хотя бы «все рассказать» ему, когда она вернется с похорон.
Уже несколько ночей отец, дед и один наш родственник не смыкали глаз и не выходили из дому. В конце концов их неуклонная преданность стала неотличима от равнодушия, а бесконечная праздность вблизи бабушкиной агонии заставляла их вести те же самые разговоры, что неизбежно возникают во время долгой поездки по железной дороге. Кстати, этот родственник, племянник моей двоюродной бабушки, неизменно пользующийся вполне заслуженным всеобщим уважением, вызывал во мне столь же неизменную неприязнь.
В горестных обстоятельствах он всегда был «тут как тут» и так упорно сидел у постели умирающих, что их родные, уверяя, будто, несмотря на внешность крепыша, басовитость и бороду лопатой, здоровье у него хрупкое, приличествующими случаю иносказаниями заклинали его не приходить на погребение. Я заранее знал, что мама, и в самой глубокой скорби всегда думавшая о других, скажет ему то, что он привык слышать от всех остальных, совсем иначе:
— Обещайте мне, что не придете «завтра». Сделайте это для «нее». Не ездите хотя бы «туда». Она бы хотела, чтобы вы не ездили.
Но поделать было нечего: он всегда первым являлся в «дом», из-за чего в других кругах заслужил прозвище «ни цветов, ни венков», о чем мы не знали. И всегда он приходил «туда», и успевал «обо всем подумать», за что получал в награду слова: «Ну, вас-то благодарить не нужно».
— Что? — громко спросил дедушка, который сделался глуховат и не расслышал, что родственник сказал отцу.
— Ничего, — отозвался родственник. — Я просто говорил, что получил сегодня утром письмо из Комбре и что погода там ужасная, а здесь, наоборот, солнце слишком печет.
— А ведь барометр совсем упал, — заметил отец.
— Где, вы говорите, погода плохая? — поинтересовался дедушка.
— В Комбре.
— А, это меня не удивляет, каждый раз, когда у нас тут пасмурно, в Комбре светит солнце, и наоборот. О господи, кстати о Комбре, кто-нибудь подумал предупредить Леграндена?
— Не волнуйтесь, все сделано, — сказал кузен, и его темные от слишком густой бороды щеки растянулись в незаметной улыбке: он был доволен, что об этом подумал.
В этот момент отец сорвался с места, я подумал, что больной стало лучше или хуже. Но это просто приехал доктор Дьёлафуа. Отец принял его в соседней гостиной, словно актера, приехавшего сыграть в спектакле. Его пригласили не лечить, а удостоверить, как нотариуса. Доктор Дьёлафуа был, конечно, великий врач и превосходный профессор; к этим амплуа, в которых он достиг совершенства, добавлялось между тем еще одно, в котором он вот уже сорок лет не знал себе равных, столь же оригинальное, как резонер, Скарамуш или благородный отец: он приезжал констатировать агонию или смерть. Само его имя предвещало то, с каким достоинством он сыграет свою роль, и когда служанка докладывала: «господин Дьёлафуа», вам казалось, что вы очутились в пьесе Мольера. Его исполненной достоинства осанке добавляла значительности изумительная гибкость стана, незаметная с первого взгляда. Лицо у него было само по себе чересчур красивое, но красоту приглушало его выражение, соответствующее горестным обстоятельствам. Профессор входил в своем черном рединготе, печальный, но без наигрыша, приносил соболезнования, свободные от малейшего притворства, и ни в единой мелочи не грешил против такта. У смертного одра знатной особой был он, а не герцог Германтский. Он осмотрел бабушку, стараясь ее не утомлять, и с великолепной сдержанностью, которая у лечащего врача служит высшим проявлением вежливости, тихо сказал отцу несколько слов, а маме почтительно поклонился; я чувствовал, как отцу хочется сказать ей: «Это же профессор Дьёлафуа». Но тот уже отвернулся, не желая докучать, и вышел самым что ни на есть изящным образом, непринужденно взяв протянутый ему конверт. Он словно не видел этого конверта, который просто исчез, словно в руках ловкого фокусника, так что мы даже на миг усомнились, в самом ли деле мы его вручили, но доктор при этом нисколько не утратил важности, подобающей великому консультанту в длинном рединготе на шелковой подкладке, красавцу, исполненному благородного сочувствия; напротив, он казался еще внушительнее. Неспешный, но проворный, он словно давал понять, что ему предстоит еще сотня визитов, но он не хочет показать, что спешит. Воистину, он был воплощением такта, ума и доброты. Этого выдающегося человека уже нет в живых. Другие врачи, другие профессора сумели с ним сравняться, а может, и превзошли его. Но «амплуа», в котором он блистал благодаря знаниям, счастливой внешности и утонченному воспитанию, исчезло вместе с ним, потому что доктору не нашлось достойных преемников. Мама даже не заметила г-на Дьёлафуа, для нее всё, кроме бабушки, перестало существовать. Забегая вперед, помню, как на кладбище она, похожая на привидение, робко подошла к могиле, словно глядя вслед улетавшему существу, которое было уже далеко, и тут отец сказал ей: «Папаша Норпуа приезжал и в дом, и в церковь, и на кладбище, пропустил очень важное для него заседание, скажи ему что-нибудь, он будет очень тронут», и мама, когда посланник поклонился ей, сумела только тихо склонить ему навстречу бесслезное лицо. А за два дня до того (и снова я забегаю вперед, прежде чем вернуться к минутам у постели умирающей) во время бдения возле бабушки после ее кончины Франсуаза, не вполне отрицавшая существование привидений, пугалась малейшего шума и говорила: «Чудится мне, будто она здесь». Но у мамы эти слова вызвали не страх, а бесконечную нежность: ей так хотелось, чтобы мертвые возвращались, ведь она могла бы тогда хоть иногда побыть вместе с матерью.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: