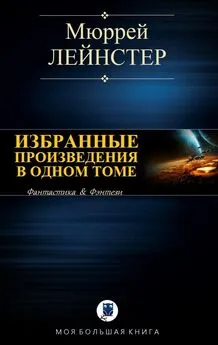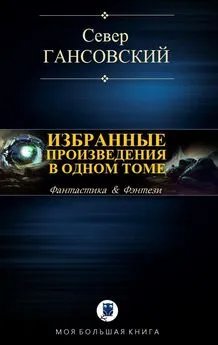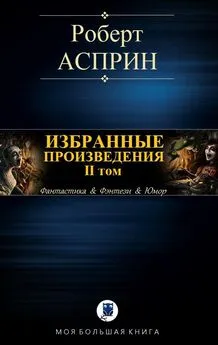Асорин - Асорин. Избранные произведения
- Название:Асорин. Избранные произведения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-280-00347-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Асорин - Асорин. Избранные произведения краткое содержание
Асорин. Избранные произведения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Праздник в Аранхуэсе — последнее совместное дело поколения 98 года. Эта речь — их последнее общее слово. И, наверное, не случайно сказать его они доверили Асорину. Как не случайно и то, что спустя одиннадцать лет Мартинес Руис — государственный деятель со стажем — подал в отставку в день прихода к власти диктатора Примо де Риверы, заявив, что не считает для себя возможным участвовать в фарсе, которым оборачивается парламентская деятельность при диктатуре. («Господи, неужели прозрел?» — изумился тогда Ортега-и-Гассет.) Столь же безоговорочно Асорин отверг пост редактора официальной газеты, предложенный ему от имени диктатора. Дважды в 1924 году он выступил публично. Первый раз с протестом, когда диктатор выслал Унамуно, и второй раз при вступлении в Академию. (Его речь — исторический этюд «Один из часов Испании» — была первой и единственной, произнесенной в стенах Академии. На заседаниях его больше не видели, от участия в комиссиях он упорно уклонялся и в итоге, когда спустя годы в Академию на имя Асорина пришло письмо, его возвратили с пометкой «Адресат неизвестен». Испанская Академия всегда была плохо осведомлена по части литературных ценностей.)
«Одному из часов Испании» посвящено больше литературоведческих статей, чем всем романам Асорина, вместе взятым, но тайна жанра остается неразгаданной. У него нет даже названия, а такие определения, как путевой очерк, картина нравов, историческая зарисовка, условны и не затрагивают сути. Всякий же, кто пробовал свои силы в новооткрытом жанре, казавшемся таким легким (полторы-две странички, пейзаж, лейтмотивы, повторы, изредка скупой диалог) неизбежно терпел фиаско. Ни подражателей, ни продолжателей в этой области у Асорина не оказалось, поскольку не оказалось соперников.
Но и его путь к образцам жанра — «Испании» и «Кастилии» — был долгим. В 1900 году Асорин выпустил книгу «Кастильская душа», казавшуюся среди его публикаций того времени чужеродной, навеянной «свитками былого» — и только. Ее короткие, не связанные между собой главы на одной-двух страничках рассказывали о плутах, инквизиции, моде, обычаях, театрах, монастырях, словом, об испанской жизни XVII–XVIII веков. Казалось, знаток кастильской души фантазирует, но нет — каждую главку сопровождал список литературы, из которого любознательный читатель узнавал, что вышеописанный фасон воротничка знаком автору не только по портретам придворных, но и сверен по старинному учебнику кройки и шитья. Асорин никогда больше не включал библиографию в текст, хотя мог бы перечислить источники, стоящие за каждой строкой. Точное знание удерживало фантазию от ложных дорог, анахронизмов и передержек. Для Асорина оно имело особое значение хотя бы потому, что в его понимании ткань интраистории могла быть соткана только из нитей микроистории — живых, обыденных подробностей прошлого бытия, почитаемых за пустяки. «Презренные мелочи» становятся у Асорина знаками родства. И не случайно в остановленном мгновении веласкесовских «Менин» он сначала заметит то, мимо чего взгляд обычно скользит, — филенчатую дверцу и тень в ее проеме — и только потом встретится глазами с художником, чтобы узнать в них собственную боль, знакомую еще Гарсиласо. Ту извечную боль, что Унамуно назовет трагическим чувством жизни.
Всю Испанию Асорин исходил пешком, изъездил в поездах третьего класса. И всюду взгляд его искал не национальные святыни и не памятники зодчества, описания которых в романах ли, в исторических ли сочинениях были призваны крепить в испанце гордое благоговение (верный признак недомыслия, как считал Унамуно). Асорин ищет другое — давнее, но живое. Ему нужен не перемещенный с чердака в витрину музейный экспонат, а простая, согретая за века теплом сотен рук утварь, за которую и сегодня по-свойски берется хозяйка. Асорин верит, что «слагаемые отечества» — шершавая беленая стена, щербатая закраина колодца, лачужка у речки, заброшенная шерстомойня, ветхая узорчатая упряжь для ослика — еще способны воскресить омертвленное чувство родины.
И первое из слагаемых — пейзаж родного края, напоенный вековой печалью: «Только воплотив в слове душу земли, душу пейзажа, писатель достигает высот». Резкие светотени кастильского нагорья — те же, что двести, триста, тысячу лет назад; те же лиловые молнии над Толедо, что видел Эль Греко, те же серые купы олив. Веками эти скалы, ущелья, долины и небо лепили душу народа — суровую, тоскующую, привычную к одиночеству, мятежную, но знавшую и горький вкус терпенья. Для Асорина такой пейзаж — обиталище народной души — стал первостепенной и постоянной художественной задачей. Готовя собрание сочинений, он разобрал все написанное на шесть стопок и дал название каждой. Потом переписал названия в тетрадь в таком примечательном порядке: пейзаж, захолустье, люди, классики, критика, политика. Два первых места безоговорочно отданы пейзажу (ведь захолустье в асориновском понимании — тоже прежде всего пейзаж).
До поколения 98 года испанская литература не знала пейзажа-символа, пейзажа-мифа. Впервые они появились у Асорина, в очерках Унамуно, романах Барохи, стихах Мачадо и сложились в портретную галерею кастильской души, галерею запечатленных в слове мгновений испанской интраистории. В таких пейзажах (критики называют их идеологическими) доминирует внутренняя суть, мифологический пласт, но в то же время они всегда узнаваемы, географически точны, ибо писаны с натуры, в определенный час. Технику импрессионизма усвоили все, но первым, убежденным и преданным ее сторонником был Асорин. Для пейзажа, открывающего «Волю», он полтора месяца вставал затемно, брал тусклый фонарик и записную книжку и поднимался на дальний холм. Оттуда, случалось и под проливным дождем, он изо дня в день, как художник, писал с натуры рассвет. Итогом шестидесяти таких зарисовок стала одна страница — образец безукоризненно графичного пейзажного письма: парящий, прозрачный, четкий рисунок, подробный и отточенный, как на старинной миниатюре.
В «Захолустье», первой части триптиха, продолженного «Испанией» и «Кастилией», асориновский пейзаж уже неподвижен. Но как бы ни чаровала взор эта спокойная красота летаргии, художнику она почти ненавистна, ибо неотделима от народных страданий. В «Кастилии» иначе. Асорину казалось, что здесь он разрешил «давний спор между этикой и эстетикой» и сумел не только смириться с властью прошлого, без остатка поглотившего будущее, но и увериться в справедливости такого хода вещей (хотя горечь в интонациях книги явственно ощутима). Пройдет еще несколько лет, и Асорин укрепится в своем решении: «В Испании ничего не меняется, но ей и не нужно перемен. Довольно говорить об упадке. Упадка не было никогда». Все отточеннее и бесстрастнее становятся исторические этюды Асорина, все чаще чистым художником называет себя тот, кто в начале пути был убежден: «В искусстве нельзя работать только ради искусства. Всегда работаешь ради чего-то, не сводимого к искусству». Так в конце концов и в творчестве отозвалось роковое для Асорина разделение на человека и художника. Острее всех эту душевную отстраненность от горя, скорбное любование им и завороженность умиранием почувствовал Антонио Мачадо. Гармония, обретенная Асорином, была чревата гибелью личности и художника, и оттого в стихах о «Кастилии» Мачадо заклинает Асорина скинуть оцепенение.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
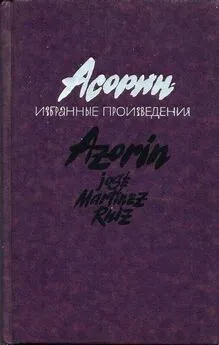

![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](/books/378704/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom.webp)
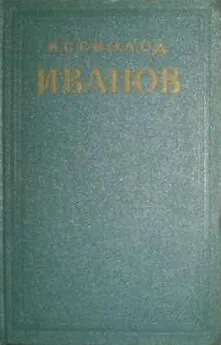

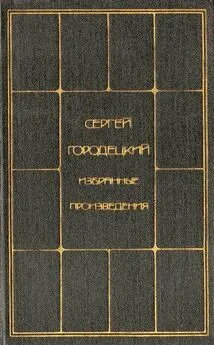
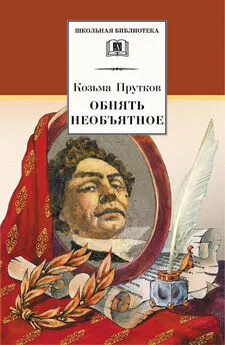
![Франсис Карсак - Избранные произведения в одном томе [Компиляция]](/books/1060560/fransis-karsak-izbrannye-proizvedeniya-v-odnom-tome.webp)