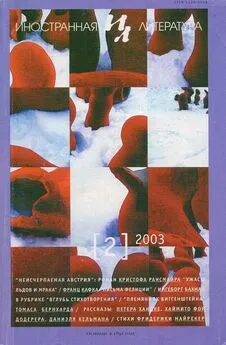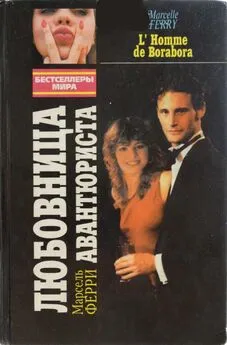Дэвид Марксон - Любовница Витгенштейна
- Название:Любовница Витгенштейна
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дэвид Марксон - Любовница Витгенштейна краткое содержание
Спутывая на своей канве множество нитей, выдернутых из биографий и творчества знаменитых художников (композиторов, философов, писателей...), вставляя яркие фрагменты античных мифов, протягивая сквозь них обрывки противоречивых воспоминаний героини, накладывая оговорки и ассоциации, роман затягивает в глубинный узор, в узлах и перекрестьях которого проступает облик растерянного и одинокого человека, оставшегося наедине с мировой культурой (утешением? навязчивым проклятием? ненужным багажом? бессмысленным в отсутствие человечества набором артефактов?).
...Марксон в этой книге добился успеха на всех действительно важных уровнях художественного убеждения. Он воплотил абстрактные наброски доктрины Витгенштейна в конкретном театре человеческого одиночества. При этом его роман гораздо лучше, чем псевдобиография, ухватил то, что сделало Витгенштейна трагической фигурой и жертвой той самой преломленной современности, открытию которой он содействовал. Эрудит Марксон написал поразительно умный роман с прозрачным текстом, завораживающим голосом и финалом, от которого на глазах наворачиваются слезы. Вдобавок он создал (будто бы невольно) мощное критическое размышление о связи одиночества с самим языком... дэвид фостер уоллес
Любовница Витгенштейна - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Впрочем, я вовсе не уверена, что была безумна... перед этим. [Когда я отправилась на юг] Чтобы навестить могилу ребенка, которого я потеряла... по имени Адам.
Почему я написала, что его звали Адам?
Саймон — так звали моего мальчика.
Незапамятные времена. В том смысле, что человек может на мгновение забыть имя своего единственного ребенка, которому теперь было бы тридцать? (с. 17-18).
Вообще-то говоря, я думаю, что это было [в Мексике], где я [загрунтовала холст, а затем долго смотрела на него и наконец сожгла]. В доме, где я когда-то жила с Саймоном и Адамом.
Я, в сущности, убеждена, что моего мужа [Сай- мона/Терри] звали Адам (с. 35).
Сейчас уже нет никаких проблем в связи с фамилией мужа, кстати. Даже если я и не видела его после расставания из-за смерти Саймона (с. 69).
Однако раньше я, наверное, опустила эту часть, о том, что заводила любовников, когда еще была женой Адама (с. 274).
Говорят, шиитские женщины скрывают под строгой одеждой тело и лицо, чтобы оставаться невидимыми и, таким образом, не гневить бедных, едва сводящих концы с концами мужчин демонстрацией своей сексуальности. Я обнаруживаю в «ЛВ» аналогичную сложную и страшную смесь эллинской и эвинской мизогинии, где, по сути, Елена виновна как объект, а Ева — как субъект, искусительница. Хотя лично я нахожу эллинский компонент более интересным и актуальным в свете современной политики, колебание Марксона между этими двумя моделями кажется мне оправданным в данном нарративе и психологически ловким. А вот когда он, похоже, задерживается на варианте Евы, используя его и в качестве архетипа, и для нарративного объяснения (что показывают примеры выше), его «Любовница Витгенштейна» становится в наибольшей степени традиционной как художественная литература. Кроме того, именно здесь, с моей точки зрения, роман обнаруживает технический изъян, выдавая совершенно мужское авторское начало, стоящее за персонажем Кейт и/или женским полом в целом. Как и в большинстве других авангардных экспериментальных произведений, такой технический изъян к тому же серьезно разжижает тематику. Мне кажется чрезвычайно интересным, что Марксон создал некую Кейт, столь правдоподобно обитающую в аду крайнего субъективизма, но в итоге сам же не смог избежать ее объективации, то есть, «объясняя» ее метафизическое состояние как эмоци- ональное/психическое и сводя ее «послание в бутылке» к безумному монологу эрудированной женщины, сведенной с ума последствиями заслуживающих порицания сексуальных действий, Марксон, в сущности, относит Кейт к одной из весьма шаблонных категорий, в которых мы, мужчины, видимо, должны организовывать и осмыслять женскую тайну, феминистический пафос, «бессильный и женственный плод». Падение Кейт, сначала якобы в жуткую духовную манифестацию маскулинной, логически строгой метафизики двадцатого века, под пристальным взглядом превращается почти что в (неизбежное?) оскальзывание в отчуждение героини от своей роли (от своей сути) матери, жены, любовницы, возлюбленной. При таком прочтении пустому солипсизму Кейт не суждено перерасти в некую мрачную независимость от объективации: Кейт попросту сменила роль реальной жены реального мужчины на роль несуществующей любовницы безусловного гения объективации [35] « Мир есть все то, что имеет место... Мир распадается на факты ».
, не расположенного к гетеросексуальному союзу. И мне видится странным, что многие из читавших эту книгу женщин, жаловавшихся, скажем, на упоминания менструации в «ЛВ» как на нечто искусственное, спокойно приняли предложенную Марксоном мнимую «мотивацию». Хотя готов признать, что это поразительно стандартное критическое замечание по отношению к современной американской художественной литературе: читатель ждет историй о вполне конкретных людях с вполне конкретными качествами во вполне конкретных обстоятельствах, происхождение которых на каком-то уровне должно быть личностно-историческим и психологическим, а не «просто» интеллектуальным, или политическим, или духовным, общечеловеческим. «Успешная» история «выходит за рамки» своей скрупулезной индивидуальности/ идиосинкразии, подводя особенности персонажей и обстоятельств под определенные широкие архетипы и мифы, унаследованные от Юнга, Шекспира, Гомера, Фрейда, Скиннера или из Ветхого Завета. Конкретика зачинает форму; сближение порождает содержание [36] В оригинале — каламбур, отсылка к поговорке «фамильярность порождает презрение». — Примеч. пер.
. Редко где еще наше некритическое наследование моделей раннего Витгенштейна и логических позитивистов проявляется столь очевидно, как в академических и эстетических предрассудках о том, что успешная художественная литература скорее нечто заключает в себе, чем вскрывает, скорее организует факты, чем подрывает их, скорее диагностирует, чем преклоняется. Античные мифы, действительно, являлись своего рода «объяснениями». Однако не случайно, что великий миф возник в той же культуре, которая породила на свет великую историю, или что Кейт читает/сжигает попеременно то классические трагедии, то классических историков. В той мере, в какой миф обогащает факты и историю, он выполняет позитивистскую и фактологическую функцию. Но американский опыт мифотворчества и мифопоклонения (от Вашингтона и вишни, Джексона и гикори, Линкольна и бревен, десятицентовых романов, Запада как лона и театра души и прочего и прочего до Пресли, Дина, Монро, Уэйна и Рейгана), влияющий на саму физику чтения сегодня, подтверждает, что миф в конечном итоге притягателен исключительно в противопоставлении истории, данным и требовательной фразе «Только факты, мэм». Лишь в такой оппозиции рассказ способен обогатить, преобразить и превзойти объяснение. Дело не в том, что специфическое/стереотипное «реальное» прошлое Кейт в «ЛВ» слабо как объяснение; мне оно кажется слабым и разочаровывающим, потому что это объяснение. Как было бы досадной слабостью «объяснять» и конкретизировать мучающие Кейт чувства одиночества и неволи не через идею о том, что ее печатающие руки, простираемые в надежде на общение, образуют тот самый барьер между Я и Миром, который сами же и пытаются проломить, а, скажем, путем помещения ее на необитаемый остров в духе телесериала «Остров Гиллигана», или школьников Голдинга, или песни группы Police «Message in a Bottle».
Пожалуй, так многотрудно я стараюсь донести как раз то, что несовершенство, идущее от маскулинных предрассудков, лишь подчеркивает, насколько важна и амбициозна «ЛВ» в качестве экспериментального литературного произведения конца 1980-х годов. Мне, человеку с писательскими претензиями, нравится то, как этот роман переворачивает общепринятую формулу успешной художественной литературы, достигая наименьшего успеха как раз там, где он больше всего на нее равняется: исполинская мощь романа ослабляется здесь ровно в той мере, в какой Кейт изображается уникальной в плане обстоятельств и истории. Когда же Кейт наименее конкретизирована, наименее «мотивирована» некоей искусно представленной, но стандартно удобоваримой травмой (эвинской/валентиновой/постфрейдистской), ее героиня и ее судьба особенно э/а/ффектны. Ведь (пусть это покажется очевидным) покуда Кейт не уникальна по своей мотивации, она может быть кем угодно из нас, и преломление мира Кейт способно спроецировать или изобразить десакрализованный и парадоксальный солипсизм американцев в стадной культуре, поклоняющейся лишь Очевидному Я, виновато-пассивных солипсистов и скептиков, пытающихся согреть нежные руки у электронного костра данных в информационный век, когда стандартные образы и принудительный эрос подменяют активное сопереживание или сакральную тайну в качестве целей, ценности, значения и пр. Это знакомое нытье, которое роман Марксона обещает и — почти — преображает, драматизирует, мифологизирует через сухой, голый факт.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: