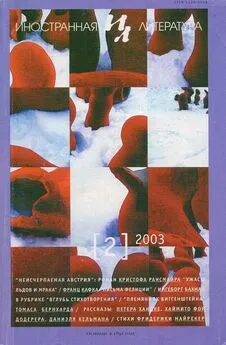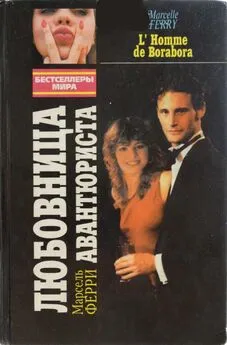Дэвид Марксон - Любовница Витгенштейна
- Название:Любовница Витгенштейна
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дэвид Марксон - Любовница Витгенштейна краткое содержание
Спутывая на своей канве множество нитей, выдернутых из биографий и творчества знаменитых художников (композиторов, философов, писателей...), вставляя яркие фрагменты античных мифов, протягивая сквозь них обрывки противоречивых воспоминаний героини, накладывая оговорки и ассоциации, роман затягивает в глубинный узор, в узлах и перекрестьях которого проступает облик растерянного и одинокого человека, оставшегося наедине с мировой культурой (утешением? навязчивым проклятием? ненужным багажом? бессмысленным в отсутствие человечества набором артефактов?).
...Марксон в этой книге добился успеха на всех действительно важных уровнях художественного убеждения. Он воплотил абстрактные наброски доктрины Витгенштейна в конкретном театре человеческого одиночества. При этом его роман гораздо лучше, чем псевдобиография, ухватил то, что сделало Витгенштейна трагической фигурой и жертвой той самой преломленной современности, открытию которой он содействовал. Эрудит Марксон написал поразительно умный роман с прозрачным текстом, завораживающим голосом и финалом, от которого на глазах наворачиваются слезы. Вдобавок он создал (будто бы невольно) мощное критическое размышление о связи одиночества с самим языком... дэвид фостер уоллес
Любовница Витгенштейна - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Мне было очень жаль слышать о вашем банкротстве, Рембрандт».
«Мне было очень жаль слышать о вашем отлучении, Спиноза».
Основной пафос здесь в том, что, опираясь на каноничную атомистическую метафизику и преобразуя ее в искусство, Марксон достиг чего-то вроде каноничной антимелодрамы. Он сделал факты грустными. Само существование Кейт — атомарный факт, ее одиночество — метафизическая крайность. Ее мир «пуст», в нем ничего, кроме данных, покрывающих его, словно дырами, сетчатым узором; он одновременно сформирован и ограничен теми эпистемологическими нитями, которые лишь она одна может сплести. Что Кейт и делает — постоянно, будучи не в силах остановиться, сознательно подражая древнегреческой Пенелопе, которая не выходит у нее из головы. Но Кейт, в отличие от законной любовницы Одиссея, не способна ни связать подобающий узор, ни распутать то, что выдумало ее сознание. С этой точки зрения она предстает уже не Пенелопой, а одновременно Клитемнестрой и Агамемноном; Клитемнестрой, которую Кейт описывает убивающей Агамемнона, «безутешной»; Агамемноном — «у своей купальни, опутанным покрывалом и заколотым сквозь него». А поскольку никакие из присутствующих вещей не связаны ни друг с другом, ни с Кейт, мемориальный проект Кейт в «ЛВ» осмыслен и неизбежен даже несмотря на то, что он закрепляет тот смутный солипсизм, который стал ее бременем. При помощи своего мемориального проекта Кейт превращает «внешнюю» историю в свою собственную. То есть переписывает ее как личную. Поедает ее, как сумасшедший Ван Гог «пытался съесть свои краски». Не случайно роман Марксона открывается наречием зарождения: «Вначале...» То, что «непочтительные размышления» рассказчицы простираются от классических поэм до голландской живописи, барочных квартетов, французского реализма XIX века и бейсбола на искусственной траве, — это не украшательство и не претенциозность автора. Это не случайность (но аллюзия), что Кейт увлеченно бросает обрывки трагической истории в огонь, — она последний историк, она ее трагик и разрушитель, кремирующий страницу за страницей Геродота (первого историка!) по мере чтения. Также нет никакой жеманности или небрежности в том, что ей кажется, будто ее «назначили куратором всего мира», и что она живет в музеях и развешивает свои картины рядом с шедеврами. Работа куратора — вспоминать, выбирать, размещать, то есть устанавливать порядок и одним лишь этим передавать значение, — может служить замечательной метафорой жизни солипсиста или стратегий выживания, подходящих для существования монады в мире преломленных фактов.
Вот только остается важный вопрос: откуда факты, если мир пуст?
На суперобложке «ЛВ», выпущенной издательством Dalkey Archive Press, солипсизм «любовницы» назван «явной метафорой абсолютного одиночества». И Кейт действительно ужасно одинока, хотя ее бесхитростные заявления («В сущности, даже тогда я была одинока») гораздо менее эффектны , чем глубоко нелепые факты, посредством которых она передает смысл изоляции: «Одна из вещей, которые часто восхищают людей в Рубенсе, даже если они не всегда знают об этом, заключается в том, что на его картинах всегда все всех касаются»; «Позже сегодня я, наверное, буду мастурбировать»; «Паскаль... отказывался сидеть на стуле, если по обеим сторонам от него не стояло еще по стулу, чтобы он не упал в пространство». Хотя для меня самым трогательным изображением ситуации Кейт стали печально-забавные описания ее попытки сыграть в теннис без партнера [23] К этому можно добавить неоднократное упоминание прыгающих повсюду теннисных мячей — отличного макроскопического символа потока атомарных фактов...
— возможно, наиболее сгущенный символ того, что Кейт проклята пребывать в мире, логически атомизированном в его рефлективном отношении к языку, поскольку передача голых данных связана с (замечательно американской) одержимостью рассказчицы имуществом, удобствами и домами. Следующий фрагмент сокращен:
Не думаю, что я когда-либо упоминала другой дом.
Что я могла упоминать, так это дома вообще, стоящие вдоль берега, но такое обобщение не включало бы этот дом, ведь он [в отличие от дома Кейт] совсем не рядом с водой.
Все, что от него можно увидеть через то [мое] заднее окно наверху, так это угол крыши...
Узнав об этом, я сразу же поняла, что где-то должна также быть дорога, ведущая к нему, разумеется.
Однако мне никак не удавалось найти эту дорогу, причем очень долго...
Так или иначе, неспособность отыскать дорогу постепенно стала совершенно новым видом беспокойства в моем существовании (с. 112-113).
Разумеется, учитывая критическое присутствие в книге Витгенштейна как объекта ссылки, модели и любовника, заманчиво трактовать одиночество Кейт как интеллектуальную метафору саму по себе, как попросту функцию радикального скептицизма, задаваемого логическим атомизмом «Трактата». Ведь опять же откуда и для чего столь важные «факты», на которые — для Витгенштейна и для Кейт — «мир распадается» [24] «Трактат», 1.2.
, но которые он в себе не заключает? Являются ли факты — реально существующие — неотъемлемой принадлежностью Внешнего? Позволяют ли они увидеть себя только через бренность чувств-данных и индуктивное мышление? Или, что гораздо хуже, возможно, они являются противоестественно дедуктивными продуктами той самой головы, которая принимает их за Внешние факты, подлинно онтические? Эта последняя возможность (если она усвоена и действительно принята на веру) представляет собой маршрут с остановками в скептицизме, затем в солипсизме и с конечной станцией в безумии. Именно эта последняя возможность наполняет неврастенией «Размышления» Декарта и таким образом порождает современную философию (а вместе с ней — отчетливо современное «отчуждение» индивидуума от любых совокупностей, будь то природных или общественных). Кейт неоднократно заигрывает с этим картезианским кошмаром, например:
Когда я начала писать об Ахиллесе, я в середине фразы подумала вместо него про кота [25] Поскольку я не могу найти более подходящего места, куда бы это вставить, то предлагаю вам рассмотреть на примере этой строки еще одну классную форму расширения горизонта, которую Марксон применяет в «ЛВ»: его способ повествования здесь не столько «поток сознания», сколько «поток сознательных высказываний»; техника Марксона имеет тут немало общих ассоциативных качеств с техникой потока сознания Джойса, но отличается своей «направленностью»; то, на кого или на что она направлена, становится для романа имплицитным сюжетом, анти сюжетом, и ложится в основу «движения нарратива», которое делается не линейным и даже не круговым, а спиральным.
.
Интервал:
Закладка: