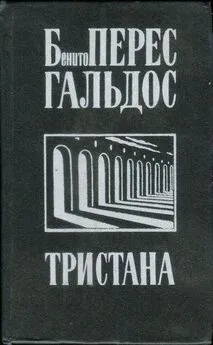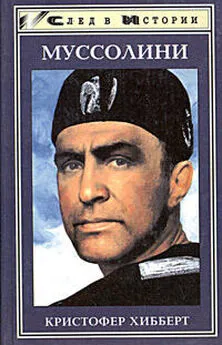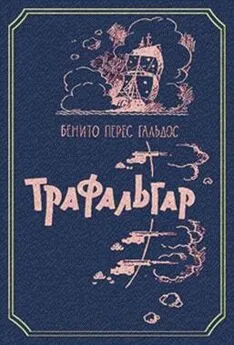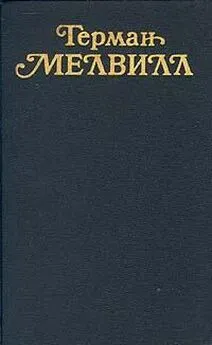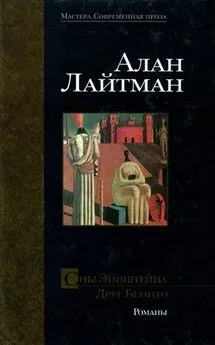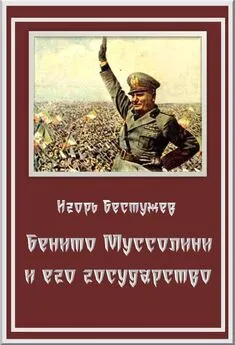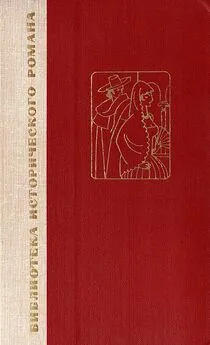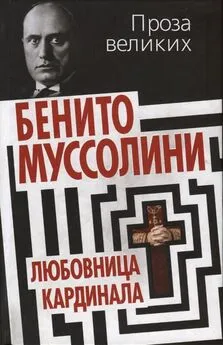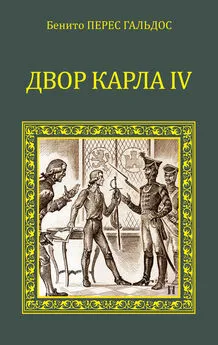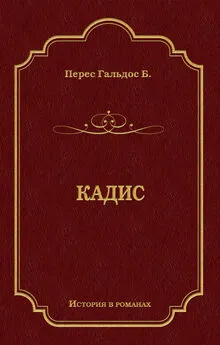Бенито Перес Гальдос - Тристана. Назарин. Милосердие
- Название:Тристана. Назарин. Милосердие
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1987
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Бенито Перес Гальдос - Тристана. Назарин. Милосердие краткое содержание
Тристана. Назарин. Милосердие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Романы «Тристана» (1892), «Назарин» (1895) и «Милосердие» (1897) относятся к тому этапу творчества Гальдоса, когда в силу его разочарования в буржуазном прогрессе и цивилизации «средний класс» утрачивает свои прежние позиции в произведениях писателя. Буржуа, еще недавно казавшийся Гальдосу реформатором жизни, обнаруживает свою эгоистическую и корыстную натуру. Социальный фон романов расширяется: писатель обращается, с одной стороны, к изображению судьбы осколков дворянства, в новых условиях теряющих все — и благосостояние, и место в социальной иерархии, и способность бороться за существование, а с другой — к жизни городских низов. Но при этом конфликт переносится из общественной сферы (где писатель не видит больше класса, способного к борьбе, к действию) в сферу религиозную, духовную, психологическую. Это вносит существенные изменения в способы построения Гальдосом характеров.
В более ранних романах цикла, не говоря уже о социально-тенденциозных романах семидесятых годов, характер мыслился прежде всего как носитель социально-типических черт; персонажи интересовали писателя главным образом как выразители идеалов, привычек, предрассудков определенного общественного слоя — гибнущего класса родового дворянства, ростовщичества и т. п. Герои «Тристаны», «Назарина» и «Милосердия» сохраняют, конечно, социально-типические черты, но вместе с тем они в значительно большей мере, чем прежние герои Гальдоса, индивидуализированы. В этих образах типичное раскрывается через индивидуально своеобразное, а личность героя не равнозначна типу. Психологические мотивировки становятся менее прямолинейными, сюжетные коллизии приобретают неоднозначность. Реальная жизнь персонажей соотносится с каким-то иллюзорным планом: искусством (противопоставленным обыденности), религией, мечтой.
Бросается в глаза обращение испанского реалиста к опыту литературы Золотого века, особенно к великому роману Сервантеса. Влияние «Дон Кихота» ощущается не только в текстуальных совпадениях, хотя и их достаточно. Скажем, представление читателю «современного рыцаря», покровителя и совратителя Тристаны, одного из многих живущих на страницах романов Гальдоса отпрысков скудеющего дворянства дона Лопе Гарридо («Тристана»), болезненно щепетильного во всех вопросах чести, кроме тех, где дело касается женщин, во многом совпадает с известным каждому началом романа о хитроумном идальго: «В некоем селе ламанчском, которого название у меня нет охоты припоминать…» Священник Назарин из одноименного романа именуется «арабским и ламанчским», как и мнимый летописец подвигов Дон Кихота Сид Ахмед Бен Инхали. Важнее другое: герои этих романов Гальдоса, как и Рыцарь Печального Образа, пытаются противопоставить жизни, окружающей их безрадостной действительности свой далекий от реальности идеал.
Тристана, героиня одноименного романа, появившегося в 1892 году, девушка с изломанной судьбой, последняя жертва стареющего донжуана, полюбив по-настоящему, выходит из замкнутого мирка убогой квартиры, но не в реальность с ее сложными проблемами, а в волшебный мир любви и искусства, то есть в реальность облагороженную, идеализированную. Однако крылья мечты оказываются слишком слабыми, чтобы летать в грозовых облаках. Разрыв между мечтой и реальностью оказывается особенно губительным в любви. С самого начала Тристана наделяет своего возлюбленного идеальными качествами, которыми он отнюдь не обладал. В разлуке же с Орасио, а в особенности после несчастья, случившегося с нею, она окончательно подменяет образ реального любимого неким идеальным существом. Стоит, однако, Орасио вернуться в Мадрид, как воздушный замок, построенный Тристаной, рушится: всё в его реальном облике кажется ей теперь проявлением посредственности.
Внутренний мир Тристаны раскрывается особенно детально, здесь Гальдос щедр на разнообразные средства, прибегая не только к авторской характеристике, но и к внутреннему монологу, к письмам-исповедям. Вообще художественное время и пространство романа весьма обогащается за счет углубления во внутренний мир героя, то есть приобретает трехмерность, объемность, тем более что социальное пространство и время исчезают со страниц книги. Немалую роль, например, играет в романе подробнейшее описание обстановки, в которой живут и действуют герои произведения. Мебель, одежда, архитектура, интерьеры квартир превращаются в знаки-символы социального пространства романа, иными словами — в существенный элемент социально-исторической характеристики эпохи.
В развязке романа проявляется новизна творческой манеры Гальдоса девяностых годов: не возлюбленный бросает искалеченную девушку, а она отрекается от «пошлой» действительности во имя идеала. Однако действительность все же торжествует, «проза жизни» диктует свои требования: чтобы получить помощь от дальних родственниц, одряхлевший обольститель дон Лопе Гарридо вынужден соблюсти приличия и жениться на Тристане, хотя о плотской любви между ними уже не может идти речи. Тристана, нашедшая высшую степень своего идеала в религии, сочетает мистические порывы со страстью к… печению пирогов, которой предается столь же одержимо, как раньше — высоким искусствам.
Уже тогда, когда писалась «Тристана», роман о столкновении действительности с мечтой, в сознании Гальдоса, его мировоззрении, эстетических взглядах назревал глубокий кризис. Гальдос никогда не был революционером; ему гораздо больше импонировал либерализм с его требованием реформ, а не революционной ломки. Именно потому он горячо приветствовал режим, установившийся в Испании после окончания последней революции, что видел в приходе к власти «среднего класса» — буржуазии залог осуществления необходимых реформ, движения страны по пути прогресса и цивилизации, утверждения в обществе принципов равенства, законности, справедливости. Увы! Прошли годы, а желанных перемен не произошло. «Тирания продолжает существовать… — восклицает писатель в статье «1 мая», написанной еще в 1885 году, — только тиранами теперь стали мы, те, кто ранее был жертвами и мучениками, средний класс, буржуазия, которая некогда сражалась с духовенством и аристократией… Таинствен ход человеческих дел!.. Вчерашние обездоленные сегодня превратились в господ. Борьба возобновляется, сменились лишь имена борцов, а суть ее остается неизменной».
Разочарование в «среднем классе», переоценка его места и роли в жизни современного общества повлекли за собой пересмотр отношения Гальдоса и к социальным низам. Этому, несомненно, способствовало усиление их активности в общественной жизни. Немалую роль сыграло и знакомство Гальдоса с русской литературой, в частности с творчеством Толстого и Достоевского. Присущие русской литературе высокий нравственный пафос, резкое неприятие социальной несправедливости, внимание к судьбам «маленького человека» не могли не произвести глубокого впечатления на испанского писателя, определили некоторые существенные черты его мировоззрения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: