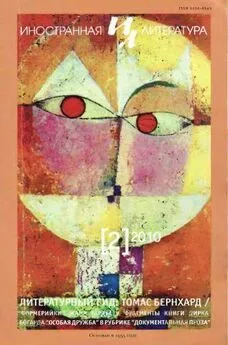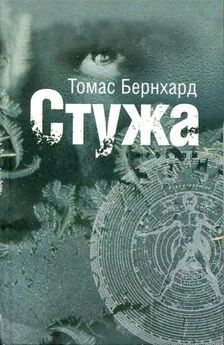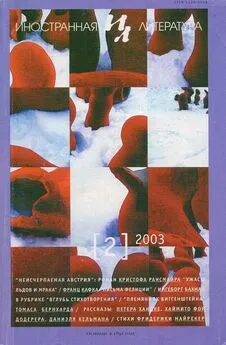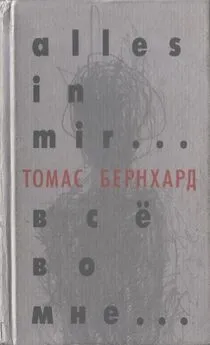Томас Бернхард - Старые мастера
Тут можно читать онлайн Томас Бернхард - Старые мастера - бесплатно
полную версию книги (целиком) без сокращений.
Жанр: Классическая проза.
Здесь Вы можете читать полную версию (весь текст)
онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть),
предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2,
найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации.
Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
- Название:Старые мастера
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Томас Бернхард - Старые мастера краткое содержание
Старые мастера - описание и краткое содержание, автор Томас Бернхард, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
Старые мастера - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Старые мастера - читать книгу онлайн бесплатно, автор Томас Бернхард
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать
искусственного неба, причем каждый новый собор был еще более помпезной попыткой сотворить искусственное небо, каждый следующий храм претендовал на еще большее великолепие, однако всякий раз получалось лишь нечто беспомощное и жалкое. Естественно, я посетил и все крупнейшие музеи, не только европейские, осмотрел их экспозиции, внимательно изучил их, и, поверьте, вскоре мне стало казаться, будто все музеи хранят в своих стенах явно беспомощные, явно бездарные, явно неудачные и явно дилетантские произведения; музеи отдали себя во власть сплошной бездарности и сплошного дилетантизма, сказал он вчера; зайдите в любой музей, начните внимательно рассматривать, изучать его, и вы увидите там сплошное убожество, дилетантство и бездарность. Боже мой, сказал Регер, ведь что касается Старых мастеров, то Прадо является, бесспорно, самым значительным музеем мира, однако каждый раз, когда я сижу напротив него в Рице и пью чай, мне приходит в голову, что даже в Прадо собраны абсолютно несостоятельные полотна, здесь царят по существу те же бездарность, убожество и дилетантство. Порою тот или иной художник становится модным, тогда его слава искусственно раздувается, его делают всемирно знаменитым; однако непременно находится человек с неподкупным умом, он вонзает свой критический взгляд в эту дутую всемирную знаменитость, и она лопается, точно мыльный пузырь, превращается в ничто так же внезапно, как возникла, сказал Регер. Веласкес, Рембрандт, Джорджоне, Бах, Гендель, Моцарт, Гёте, сказал он, или Паскаль и Вольтер — все это дутые величины. Например, Адальберт Штифтер, которого почитал настолько, что это граничило с идолопоклонничеством, сказал вчера Регер, при ближайшем рассмотрении оказался весьма посредственным писателем, подобно тому как Брукнер, если в него вслушаться повнимательнее, оказывается довольно слабым, а то и вовсе скверным композитором. У Штифтера кошмарный стиль, он и в грамматическом отношении не выдерживает никакой критики; Брукнер же опьяняет себя диким хаосом звуков, подростковым религиозным экстазом, сохранившимся у него до глубокой старости. Я чтил Штифтера долгие годы, не удосуживаясь заняться им основательно, всерьез. Когда же год назад я занялся им основательно и всерьез, то не поверил своим глазам. Такого беспомощного, безграмотного немецкого или, если угодно, австрийского языка я не встречал за всю свою сознательную жизнь, а ведь Штифтера превозносят сегодня именно за его ясную, отточенную прозу. Но прозу IIIтифтера нельзя назвать ни ясной, ни отточенной, она напичкана весьма туманными и неудачными сентенциями, ее образы слишком приблизительны; я действительно поражен тем, что сей провинциальный дилетант, хотя и дослужившийся в Верхней Австрии до чина школьного советника, сделался ныне столь модным автором, причем он пользуется авторитетом среди молодых и одаренных писателей. По-моему, молодые люди попросту никогда толком не читали Штифтера, а поклоняются ему слепо, знают Штифтера понаслышке, никогда не изучали его всерьез, как это сделал я. Год назад, когда я по-настоящему прочитал Штифтера, который слывет ныне классиком, мне стало жутко от мысли, что когда-то я и сам высоко чтил, даже обожал эту бездарность. Ведь я познакомился с книгами Штифтера в ранней юности, мои впечатления держались на тех давних воспоминаниях. Я читал его в двенадцатилетнем возрасте, а потом в шестнадцатилетнем возрасте, когда сознание весьма некритично. Позднее я уже не перепроверял своих впечатлении. Штифтер ужасно многословен, стиль его примитивен, а главное — неряшлив; он, пожалуй, самый скучный и фальшивый немецкий писатель. Пресловутая отточенность, ясность и четкость штифтовской прозы на самом деле оборачивается бесформенностью, беспомощностью, я бы даже сказал — стилистической безответственностью; его проза отличается той мещанской сентиментальностью и дряблостью, от которых - достаточно вспомнить роман Витико или повесть Записки моего прадеда — прямо-таки тошно становится. Например, в повести Записки моего прадеда с первых же строк очевидна наивная попытка выдать нудную, сентиментальную, пресную писанину за серьезное прозаическое произведение, хотя на поверку перед нами не что иное, как примитивное рукоделие заурядного обывателя из Линца. Да и мыслимо ли, чтобы захолустье вроде Линца, которое оставалось таковым со времен Кеплера, провинциальная дыра с оперой, где не умеют петь, с театром, где не умеют играть, с художниками, которые не умеют рисовать, и с писателями, которые не умеют писать, вдруг разродилась бы гением. Штифтера называют гением, но он далеко не гений; в жизни он закомплексованный обыватель, да и в литературе он такой же закомплексованный, косный обыватель; этот провинциальный учителишка не удовлетворяет простейшим требованиям к языку, не говоря уж о способности создать подлинное произведение искусства, сказал Регер. Короче, Штифтер стал едва ли не самым большим эстетическим разочарованием в моей жизни. Он фальшивит каждой четвертой, если не третьей фразой, каждой третьей, если не каждой второй метафорой; его проза несостоятельна; что же до ума, который должен присутствовать в прозе, то и его следует в лучшем случае оценить как весьма заурядный. Штифтер — самый непоэтичный или даже антипоэтичный из всех писателей, к тому же у него начисто отсутствует воображение. Тот факт, что Штифтер на склоне жизни покончил с собой, не отменяет его заурядности. Вряд ли был на свете писатель столь же беспомощный, узколобый, косный, но одновременно столь же всемирно известный, как Штифтер. С Антоном Брукнером дело обстоит точно так же; сверх меры богобоязненный, сверх меры ревностный католик, он переехал из Верхней Австрии в Вену, чтобы всецело отдать себя служению императору и Богу. Нет, и Брукнер гением не был. Его творческие потуги смехотворны, его музыка темна и беспомощна, как и проза Штифтера. Однако если Штифтер, строго говоря, интересен сегодня, пожалуй, лишь литературоведам, то музыка Брукнера трогает многих людей до глубины души. Брукнеровские музыкальные излияния покорили весь мир; можно сказать, что напыщенная сентиментальность празднует в творчестве Брукнера подлинный триумф. Брукнер так же неряшлив в своих сочинениях, как Штифтер в своих. Их искусство слишком богоугодно и этим опасно. Вот Кеплер был человеком воистину замечательным, зато и родом он не из Верхней Австрии, а из Вюртемберга, сказал вчера Регер; творческое наследие Адальберта Штифтера и Антона Брукнера оказалось в сущности лишь литературной и музыкальной макулатурой. Кто ценит Гёте и Клейста, Новалиса и Шопенгауэра, должен — пусть не презирать, но хотя бы отвергать Штифтера. Кто любит Гёте, не может одновременно любить и Штифтера. Гёте никогда не искал легких путей, а Штифтер никогда не усложнял себе жизни. Хуже всего то, что Штифтер был школьным учителем, которого боялись дети, он занимал в системе народного образования довольно высокий пост, однако делал при этом такие ошибки в немецком языке, какие нельзя прощать ни одному школьнику. Если бы дать страничку, написанную Штифтером, кому-либо из его учеников, ее всю испещрили бы красным карандашом, это правда. Читая Штифтера с красным карандашом, сказал вчера Регер, устанешь подчеркивать ошибки. Нет, воскликнул он, его пером водила рука не гения, а обыкновенного бездаря. Если вам нужен пример абсолютного отсутствия вкуса, пример вялой, сентиментальной и бессмысленной литературы, то именно таким примером являются книги Штифтера. Написанное Штифтером нельзя считать художественной литературой; каждое его слово — бессовестная ложь. Недаром же Штифтера читают главным образом скучающие домохозяйки и вдовы чиновников, убивающие свой досуг медсестры или монашки в монастырях. Человек мыслящий не станет читать Штифтера. По-моему, те, кто сегодня ставит Штифтера так высоко, так превозносит его, просто не имеют о нем ни малейшего представ и пишут о Штифтере, хвалят его так горячо, будто речь идет о современном авторе. Эти люди либо глупы, либо им не хватает вкуса, но чаще всего можно предположить, что они попросту никогда не читали Штифтера, сказал Регер. Не пытайтесь уверить меня, будто Штифтер имеет хоть какое-нибудь отношение к искусству, во всякой случае, я, сказал он, понимаю искусство совершенно иначе. Штифтер — прозаическая размазня, сказал он, Брукнер — музыкальная. Бедная Верхняя Австрия, сказал Регер, она полагает, что дала миру двух гениев, а они — ничтожества с незаслуженной и непомерно раздутой славой, один в литературе, другой в музыке. Когда подумаешь, у скольких верхнеавстрийских учительниц, у скольких католических монашек на ночном столике рядом с иконкой, гребенкой и педикюрными ножницами лежит томик Штифтера, когда подумаешь, сколько государственных мужей не могут сдержать слез, заслышав симфонию Брукнера, становится тошно, сказал Регер. На свете нет ничего выше искусства, но нет ничего и отвратительней его, сказал он. Тем не менее мы силимся уверить себя, будто существует лишь высокое, высочайшее искусство, ибо готовы впасть в отчаяние от мысли, что это не так. Мы не хуже других знаем, что искусство со всей его беспощадностью и смехотворностью в конце концов отправляется на мусорную свалку истории, однакоЧитать дальше
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать