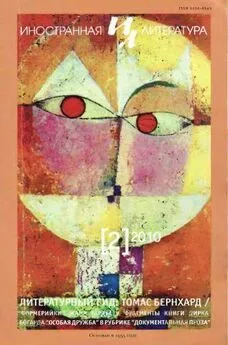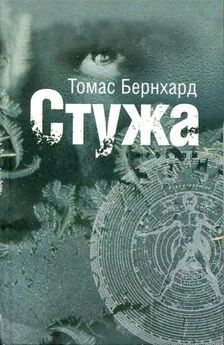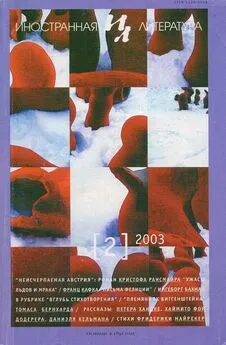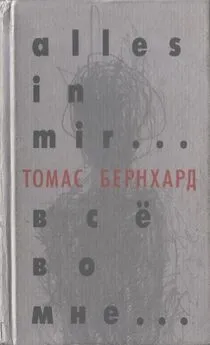Томас Бернхард - Старые мастера
Тут можно читать онлайн Томас Бернхард - Старые мастера - бесплатно
полную версию книги (целиком) без сокращений.
Жанр: Классическая проза.
Здесь Вы можете читать полную версию (весь текст)
онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть),
предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2,
найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации.
Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
- Название:Старые мастера
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Томас Бернхард - Старые мастера краткое содержание
Старые мастера - описание и краткое содержание, автор Томас Бернхард, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
Старые мастера - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Старые мастера - читать книгу онлайн бесплатно, автор Томас Бернхард
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать
самонадеянно продолжаем веровать в существование высокого искусства. Нам прекрасно известно, что в искусстве полно бездарей и неудачников, но мы не хотим это сознавать, ибо подобное сознание было бы для нас гибельным, сказал Регер. Но вернемся к Штифтеру, сказал он, сегодня многие литераторы клянутся именем Штифтера. А ведь они клянутся именем бездаря, который всю свою писательскую жизнь насиловал природу. Если бы это было возможно, то Штифтера следовало бы судить за изнасилование природы, сказал вчера Регер. Штифтер мечтал быть писателем зорким, но был на самом деле слепцом, сказал он. Проза Штифтера топорна, наивна и назидательно-провинциальна. Он славится своими описаниями природы однако вряд ли кто-либо описывал ее хуже; Штифтер словно стремится уверить нас (благо бумага все стерпит), что природа и впрямь так скучна, какой она получается в его книгах. Ведь, в сущности, Штифтер всего лишь навсего обычный зануда, своим бездарным пером он замораживает природу (а вместе с нею и читателя) именно там, где она способна проявить свою жизненную силу и присущее ей событийное разнообразие. У Штифтера обывательское мироощущение, оно как бы окутывает мир густой пеленой пошлости, отчего тот начинает задыхаться, вот в чем дело. На самом деле Штифтер не может по-настоящему описать ни дерево, ни певчую птицу, ни быстрый ручей, вот в чем беда. Ему хотелось бы создавать яркие, зримые образы, но под его пером все умирают; он стремится к блеску, но написанное получается тусклым, вот в чем беда. Природа у Штифтера монотонна, а человек беден чувствами и мыслями, сам же автор бессодержателен, скучен и неизобретателен, его описания бесконечно занудны, особенно если учесть, что кроме описаний он вообще ни на что не способен. Штифтер похож на плохих и неизвестно почему прославленных художников, картинами которых увешаны стены Художественно-исторического музея, достаточно вспомнить хотя бы Дюрера и еще сотню таких же посредственностей, сказал Регер. Рамы их картин гораздо ценнее самих полотен, тем не менее посетители музея восхищаются этими картинами, как читатели восхищаются книгами Штифтера, хотя и не могут объяснить своих восторгов. Самым загадочным в Штифтере остается его слава, ибо в его прозе ничего загадочного нет. Обычно мы не терпим величия рядом с собой, поэтому со временем мы стараемся свести на нет величие замечательных художников, писателей и музыкантов, мы развенчиваем их, проявляя немалую решительность и последовательность. Но к Штифтеру это не относится, ибо он никогда и не был истинно великим. Наоборот, Штифтер служит примером того, как писатель заурядный неожиданно становится предметом всеобщей любви и поклонения, пожалуй, только потому, что людям страстно хочется кого-либо любить и кому-либо поклоняться. Когда же мы убеждаемся, что величие тех, кого мы любили и кем мы восторгались, оказалось мнимым и что в действительности наш кумир оказался болванчиком или даже полным ничтожеством, то прозрение причиняет нам сильнейшую боль. Если годами, десятилетиями, а то и всю жизнь мы преклоняемся перед кем-то, ни разу не ставя под сомнение своих чувств, то расплата оказывается неизбежной. Если бы лет тридцать или двадцать, пусть даже пятнадцать тому назад я бы подверг критической проверке мое отношение к Штифтеру, мне удалось бы избежать нынешнего запоздалого разочарования. Вообще нельзя провозглашать никакого писателя или художника великим на все времена, нужно периодически подвергать их величие проверке, развивая наш художественный вкус и наше литературоведение или искусствоведение, сказал Регер, это бесспорно. У Штифтера хороши только письма, сказал Регер, все остальное не представляет интереса. Но литературоведы будут еще долго носиться со Штифтером, они обожают подобных всеобщих кумиров, которым если и не суждена вечная слава то по крайней мере на них еще долгое время можно зарабатывать нелегкий литературоведческий хлеб. Иногда я проводил вот какой эксперимент: я давал разным людям, умным и не очень, образованным и не слишком, почитать какую-нибудь книгу Штифтера, например Пестрые камни, Кондора, Бригитту или Записки моего прадеда, а потом спрашивал их мнение о прочитанном, причем требовал честного ответа. И все честно отвечали, что книги им не понравились и что они испытали огромное разочарование, поскольку не обнаружили для себя ничего, абсолютно ничего интересного; все удивлялись незаслуженной славе человека, который пишет так плохо. Этот эксперимент забавлял меня довольно долго, я даже называл его пробой на Штифтера. Точно так же я спрашивал порой людей, действительно ли им нравится Тициан, например его Мадонна с вишнями. Никому из опрошенных картина не понравилась, все ходили смотреть на нее лишь потому, что она очень известна, на самом же деле тициановская картина не вызывала у зрителей ровным счетом никаких эмоций. Я не сравниваю Штифтера с Тицианом, это было бы абсурдом, сказал Регер. Литературоведы не просто влюблены в Штифтера, они прямо-таки сходят от него с ума. Дело, по-моему, в том, что литературоведы прилагают к Штифтеру совершенно неподходящую мерку. Сейчас о Штифтере пишется столько, сколько не написано ни об одном авторе того времени; когда же читаешь, что пишется о Штифтере, поневоле думаешь, что авторы либо не осилили ни одной его книги, либо ознакомились с книгами Штифтера весьма поверхностно. Сейчас чрезвычайно высоко котируется природа, сказал вчера Регер, поэтому так поднялись акции Штифтера. Все, что так или иначе связано с природой, нынче очень модно, сказал вчера Регер, отсюда и мода на Штифтера, более того — он стал прямо-таки последним криком моды. Нынче стали модными лес, горные ручьи, вот и Штифтер стал моден. Штифтер до смерти скучен, однако по странной прихоти судьбы он вошел в моду, сказал Регер. И, вообще, в моду вошли ужасная сентиментальность и всяческий кич; с середины семидесятых по сей день, то есть к середине восьмидесятых годов, установилась большая мода на сентиментальность и кич, захватившая литературу, живопись и музыку. Никогда еще не было опубликовано столько литературного сентиментального кича, сколько его появилось в восьмидесятые годы; никогда еще не было в живописи такого количества сентиментального кича, да и композиторы соперничают друг с другом, кто больше насочиняет сентиментального кича; пойдите в театр, там тоже все заполнил вредный сентиментальный кич; пусть царят жестокость и бурные страсти, все равно это тот же сентиментальный кич. Пойдите на выставку в картинную галерею— вы не увидите ничего кроме отвратительнейшего сентиментального кича. Ступайте в концертный зал — вы и там не услышите ничего, кроме сентиментального кича. Книги полны сентиментального кича, который стал моден в последние годы, благодаря Штифтеру. Он — классик литературного кича, сказал Регер. На любой штифтеровской странице наберется столько сентиментального кича, что его с лихвой хватит нескольким поколениям монашек и медсестер, жаждущих называемой поэзии, сказал Регер. Но и у Брукнера за душой нет ничего, кроме сентиментального кича, кроме величаво-приторной оркестровой патоки. Нынешние молодые писатели оказались во власти безмозглого, пошлого кича, их книги полны невыносимой сентиментальной патетики, поэтому неудивительно, что Штифтер оказался в такой моде. Штифтер, введший в большую, серьезную литературу пошлейший кич, да еще совершивший на склоне лет пошлейшее самоубийство, оказался ныне невероятно моден, сказал Регер. Ясно, что теперь, когда модными стали разговорыЧитать дальше
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать