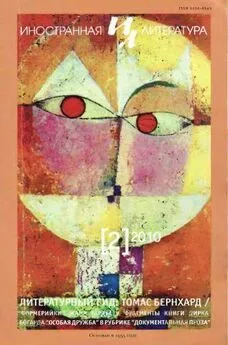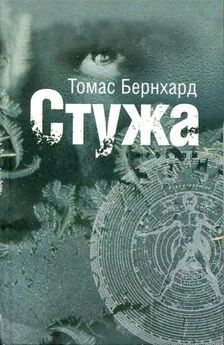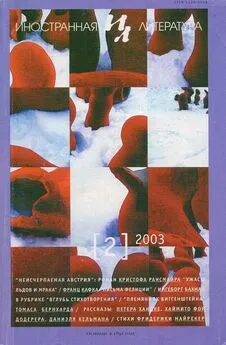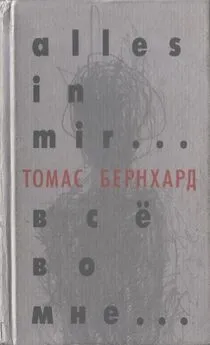Томас Бернхард - Старые мастера
Тут можно читать онлайн Томас Бернхард - Старые мастера - бесплатно
полную версию книги (целиком) без сокращений.
Жанр: Классическая проза.
Здесь Вы можете читать полную версию (весь текст)
онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть),
предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2,
найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации.
Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
- Название:Старые мастера
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Томас Бернхард - Старые мастера краткое содержание
Старые мастера - описание и краткое содержание, автор Томас Бернхард, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
Старые мастера - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Старые мастера - читать книгу онлайн бесплатно, автор Томас Бернхард
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать
искренне и всерьез, сказал Регер. По его словам, самой курьезной ему кажется хайдеггеровская фраза: ничто не существует без основания. Но немцам импонирует велеречивость, это одна из характернейших черт немецкого менталитета. Что же касается австрийцев, то они в этом отношении еще хуже. Я видел множество фотографий, снятых одной очень талантливой женщиной; Хайдеггер выглядит на них толстым отставным офицером генерального штаба, когда-нибудь я покажу их вам, сказал Регер; на этих снимках Хайдеггер ложится в кровать или встает с кровати, спит или просыпается, надевает кальсоны и носки, пьет ягодный сок, выходит из своего рубленого дома, оглядывает горизонт, вырезает себе палку, напяливает свою шапочку, снова ее снимает, держит ее в руках, сидит, расставив ноги, поднимает голову, опускает голову, берет своей правой рукой левую руку жены или жена берет своей левой рукой правую руку мужа; он вышагивает перед домом, уходит за дом, приближается к дому, удаляется от дома, читает, ест, хлебая ложкой суп, отрезает ломоть (самодельного) хлеба, открывает (собственную) книгу, закрывает (собственную) книгу, нагибается, потягивается и так далее, сказал Регер. Тошно становится. Если уж вагнеровцы невыносимы, то Хайдеггеровцы и подавно, сказал Регер. Разумеется, я не сравниваю Хайдеггера с Вагнером, который и впрямь был гением и более, чем кто-либо другой, заслуживал этой характеристики в отличие от Хайдеггера, оставшегося для философии второстепенной, незначительной фигурой. В нашем веке Хайдеггер стал самым лелеемым немецким философом, хотя и был полным ничтожеством. Но Хайдеггера обожали лишь те, кто путает философию с поваренной книгой, где отыскивается рецепт лакомого блюда, жареного или вареного, которое пришлось бы немцам по вкусу. Хайдеггеровское философское капище находилось в Тодтнауберге, там он и принимал ритуальные почести, будучи чем-то вроде священной коровы. Даже один из самых известных и грозных северогерманских издателей запечатлен здесь коленопреклоненным и с широко открытым ртом, будто в ожидании святого причастия от Хайдеггера, восседающего при свете заходящего солнца на своей скамеечке. Все эти люди, совершая паломничество в Тодтнауберг к Хайдеггеру, становились посмешищем. Они прибывали в шварцвальдское философское святилище, восходили на хайдеггеровскую вершину и падали ниц перед своим кумиром. По глупости своей они не могли сообразить, что их кумир являет собою на самом деле духовное ничтожество. Им это и в голову не приходило. Случай с Хайдеггером весьма показателен для культа философов в Германии. Немцы всегда избирают себе кумиром не того, кого следовало бы, впрочем, личный кумир всегда оказывается под стать своим невежественным поклонникам, сказал Регер. Весь ужас заключается для меня в том, что я прихожусь по материнской линии родственником Штифтеру, а по отцовской — Хайдеггеру, прямо смех да и только. Даже Брукнер является моим родственником, правда, тут родство дальнее, как говорится, седьмая вода на киселе, но все-таки. Конечно, я не настолько глуп, чтобы стыдиться моей родни, это было бы полным идиотизмом, однако не стану и утверждать, будто слишком уж горжусь столь знаменитыми родственниками, как это всегда делали мои родители и вся семья. Большинство моих предков из верхнеавстрийской и вообще австрийской или немецкой ветви были торговцами и предпринимателями, вроде моего отца, а еще раньше, естественно, крестьянами; родом они были преимущественно из Богемии, реже с самых Альп, чаще с альпийских предгорий, имелась у нас и значительная доля еврейской крови. Среди моих предков есть архиепископ, но есть и убийца, погубивший двух людей. Я всегда говорил себе, что не стоит выяснять подробности собственной родословной, иначе можно нарваться на еще большие неприятности, чего я, признаться, побаиваюсь. Люди обожают разыскивать своих предков, копаться в собственной родословной, пока не обнаружится какой-нибудь; сюрприз, который приводит тщеславного исследователя в растерянность или даже в отчаяние. Я никогда не был охотником до генеалогии, у меня нет ни малейшей склонности копаться в прошлом, однако при всем моем равнодушии и мне с течением прожитых лет приходится открывать для себя довольно странные типажи среди моих предков, от этого никуда не денешься; вроде бы, и не хочешь копаться в родословной, а сам поневоле всю жизнь только это и делаешь. Так или иначе меня можно считать продуктом весьма интересной смеси , где было, так сказать, намешано всякой всячины. В этом смысле я и сам хотел бы знать поменьше, чем мне известно, но с возрастом многое накапливается как бы само собой, сказал Регер. Больше всего мне нравился один из моих предков — столяр-подмастерье, который в 1848 году с гордостью сообщает из крепости Каттаро своим родителям, живущим в Линце, о том, что выучился грамоте. Этот подмастерье, мой родич по материнской линии, служил в крепости Каттаро, ныне Котор, артиллеристом, у меня до сих пор хранится то письмо восемнадцатилетнего парня, который спешит похвалиться в Линц своими успехами; на письме имеется пометка императорской почты о том, что его содержание предосудительно. Все в нас коренится от наших предков, сказал Регер, впрочем, мы добавляем и кое-что свое. Я почти всю жизнь считал большим везением родство со Штифтером, пока не понял, что он отнюдь не является великим писателем и вообще не заслуживает того пиетета, с которым я к нему относился. Мне всегда было известно и о моем родстве с Хайдеггером, ибо родители вспоминали о нем при каждом удобном случае. А ведь Штифтер-то нам родня, и Хайдеггер тоже, и Брукнер, твердили мои родители всем и каждому, отчего мне часто становилось неловко. Во всей Австрии, а особенно в Верхней Австрии родство со Штифтером вызывает восхищенное изумление — это почти то же самое, что состоять в родственных отношениях с императором Францем Иосифом; родство же со Штифтером и одновременно с Хайдеггером вообще считается чудесной диковиной не только в Австрии, но и в Германии. А если присовокупить к этому в подходящий момент, что родственником нам доводится еще и Брукнер, то люди просто обалдевают и долго не могут прийти в себя. Иметь среди родни знаменитого писателя — это немалая честь, если же в родне отыскивается еще и известный философ, то это гораздо большая редкость, сказал Регер, но когда ко всему прочему родственником оказывается Антон Брукнер, тут уж дальше некуда. Родители часто использовали это обстоятельство в корыстных целях, извлекая из него изрядную выгоду. Нужно было только намекнуть на свое родство в подходящем месте — в Верхней Австрии полезно сослаться на Адальберта Штифтера, особенно если имеешь дело с земельным правительством, от которого у верхнеавстрийцев всегда очень многое зависит; когда у родителей имелась какая-то проблема в Вене, то тут обычно шел в ход Антон Брукнер, ну а в Линце, Вельсе или Эфердинге, то есть в Верхней Австрии, полезно было намекнуть на Штифтера; короче, для решения венских проблем родители предпочитали вспомнить Брукнера, а если им случалось ездить в Германию, там они по сотне раз на дню твердили, что Хайдеггер доводится им родственником, они даже говорили —Читать дальше
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать