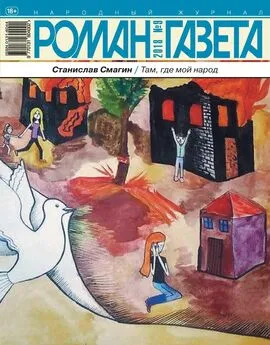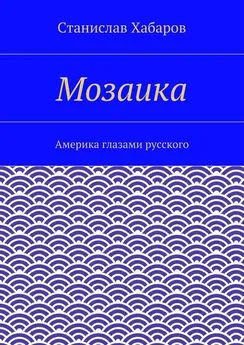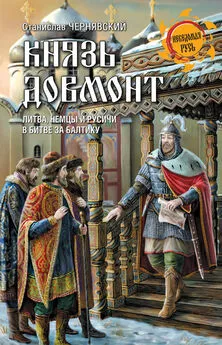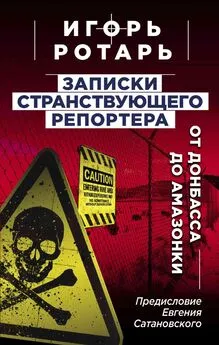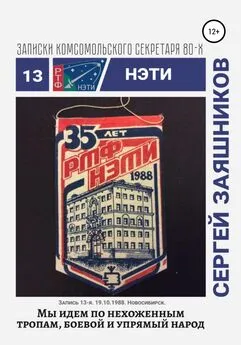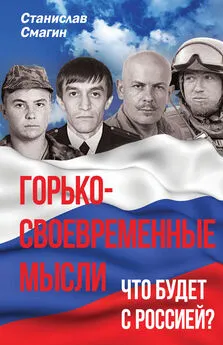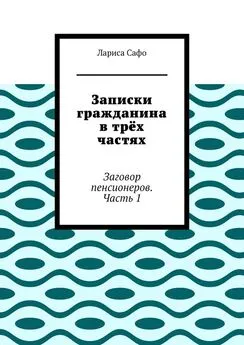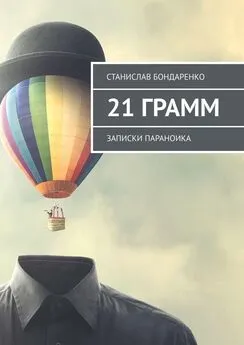Станислав Смагин - Там, где мой народ. Записки гражданина РФ о русском Донбассе и его борьбе
- Название:Там, где мой народ. Записки гражданина РФ о русском Донбассе и его борьбе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Роман-газета № 9
- Год:2018
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Станислав Смагин - Там, где мой народ. Записки гражданина РФ о русском Донбассе и его борьбе краткое содержание
С. Смагин
Там, где мой народ. Записки гражданина РФ о русском Донбассе и его борьбе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
У меня были две мечты, связанные со знакомством с кем-либо из живущих ныне людей.Речь о Юрии Бондареве и Игоре Шафаревиче. Очень хотелось успеть. Не успел. В конце февраля 2017 года мечта осталась одна — Игорь Ростиславович Шафаревич умер на 94-м году жизни.
Когда умирает такой человек, удивляешься не самому факту смерти — возраст, понятно, очень почтенный. Удивляешься, скорее, что еще позавчера он был жив и мы имели честь называть себя его современниками. Про таких людей кощунственно сказать, что они «пережили свое время» — наоборот, это нам досталось великое счастье захватить кусочек их времени.
Да, в общем-то, даже с точки зрения голых фактов «пережил свое время» применительно к Шафаревичу никак не вытанцовывается. Ведь эта фраза подразумевает, что физическим возрастом человек превзошел срок актуальности проблем и вопросов, находившихся в центре его жизни умственной, духовной. А можно ли утверждать, что исчерпаны проблемы, заставившие Игоря Ростиславовича в начале 1970-х из видного заслуженного математика превратиться еще в активного участника общественно-политической жизни, меткого и яркого публициста? Нет. Проблемы многократно усугубились, худшие опасения Шафаревича подтвердились, его прогнозы сбылись. Мы видим это не только в России, но и в мире. В 1992 году, когда США казались не только центром, но и наиболее характерным олицетворением повсеместно победившего либерального «конца истории» в комплекте с мультикультурной толерантностью и постмодерном, американская Национальная академия наук призвала Игоря Ростиславовича добровольно покинуть ряды ее членов. Сейчас США лихорадит почти как перестроечный СССР, а беснующиеся на тамошних улицах представители разных меньшинств с водруженными на голову резиновыми вагинами — типичный образчик пресловутого «малого народа», о котором писал покойный, вызывая истеричное гневанье общепланетарной рукопожатной общественности.
Шафаревич, как и всякий честный искренний человек, действующий не по холодному расчету (даром что математик), а по велению сердца, нередко ошибался, предоставляя повод для критики даже товарищам по национальному движению и патриотическому лагерю. Ему припоминали (и я в том числе, не в прессе, но «про себя») статью «Россия наедине с собой», появившуюся в первом номере «Нашего современника» за 1992 год. Вообще именно в этом журнале, название которого звучит вдвойне символично в резонансе с моими мыслями из начальных абзацев, Игорь Ростиславович публиковал свои самые замечательные материалы. Тогда, сразу после крушения СССР, Шафаревич со сдержанным одобрением отозвался о произошедшем, выразив надежду, что в новых границах Россия станет сильнее и устойчивее. Однако разве тогда не было других достойных людей, имевших аналогичное мнение? Вадим Цымбурский, которого мы тепло вспоминали в связи с его шестидесятилетием, даже разработал на возгонке подобных надежд концепцию «Остров Россия». Увы, сговор в Беловежской пуще оказался для исторической России двойной трагедией и катастрофой. Мы потеряли империю, но и не приобрели взамен национальное государство.
А что приобрели? С чем остались? Что ждет впереди? Четверть века Игоря Ростиславовича, как и любого нормального русского человека, мучили эти рвущие нутро вопросы. На смену страшным 1990-м, когда все было по-плохому ясно, пришла новая эпоха, где тоже слишком много ясного по-плохому, но иногда появляется интрига, надежда, тропинка вверх, а не под гору. Появляется, чтобы зачастую очень быстро исчезнуть. Игорь Ростиславович не мог не радоваться возвращению Крыма в родную русскую гавань, но все, что было после, с оставшейся без ответа одесской Хатынью, геноцидом Донбасса, двумя раундами «безальтернативных» Минских соглашений, радовало его вряд ли. Я не знаю, успел ли он в последний день своей жизни узнать о подписании президентом РФ указа о признании документов ДИР и ЛИР, пусть и с раздражающими формулировками «отдельные районы» и «до политического урегулирования». Если успел, то ушел в мир иной с крохотной, но радостью за донбасских соотечественников. Вся его сознательная жизнь была тяжелым путем от одних крохотных радостей до других в ожидании и борьбе за большие радости для русского народа и России.
Прими, Господи, душу раба Твоего Игоря. Будьте там нашим заступником, Игорь Ростиславович.
10 марта — очередная годовщина смерти Булгакова. В2017 году она некруглая, но симметричная и по-своему красивая, насколько подобное определение вообще применимо к годовщине смерти, — 77 лет. Думаю, сам Михаил Афанасьевич против слова «красивая» вряд ли бы сильно возражал. Скорее — даже одобрил бы.
Что можно сказать в этот день о человеке, о котором и так уже сказано все что можно? Булгаков, как поистине гениальный Мастер, умел, рассказывая о повседневности конкретной эпохи, затрагивать вечные темы и давать им новое прочтение. Так, «Собачье сердце» — это не только фантастический этюд в красочном антураже Москвы середины 1920-х годов, но и размышление о Творце и Творении, ответственности человека за содеянное им, уместности искусственного при наличии естественного; размышление, с одной стороны, блестяще раскрывающее темы, с другой — дающее почву для противоположных друг другу и практически одинаково убедительных трактовок, есть же итальянская экранизация, где профессор Преображенский — злобный жестокий самодур-экспериментатор, а Шариков — вполне милая и симпатичная жертва его омерзительного эксперимента. Про самое известное булгаковское произведение и не говорю, здесь погружение в метафизику и метаисторию еще сильнее и гуще, при опять же широком просторе для трактовок.
Однако Булгаков, как, опять-таки, подобает гению, не только заглядывал в прошлое и Вечное, но и предсказывал будущее. Причем в этом плане ему даже не пришлось сильно задействовать провиденциальный ресурс, достаточно было просто метко и талантливо зафиксировать окружающую действительность. Речь, конечно, о киевско-украинской теме в «Белой гвардии».
Есть известная фраза, то ли реально сказанная Владимиром Винниченко, то ли приписываемая ему: «Русский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос». Произнесенная в реальности либо сконструированная задним числом, она, тем не менее, содержит нескрываемый упрек: вот, мол, какие все русские, вне зависимости от политических оттенков, имперские шовинисты. На самом деле все проще и одновременно сложнее. Во времена Винниченко и чуть раньше русские либералы и демократы — не все, но многие, гораздо больше, чем сейчас, — еще были либералами и демократами без жирных кавычек, еще не страдали смещением картины миры в сторону тотальной одноцветности, еще не отринули чувство патриотизма и банальную объективность. Разве можно назвать империал-шовинистом рафинированного либерала и западника Ивана Сергеевича Тургенева, из-под пера которого на страницах «Рудина» вышел бессмертный отрывок «грае, грае, воропае»? Конечно нет, это всего лишь незлая ирония над малороссийской культурой в рамках большого триединого русского народа, отмеченная, впрочем, смутной тревогой относительно политизации и обособления этой культуры. Старик Тургенев всего лишь описывал то, что видел. Ровно так же, как через некоторое время честно говорил о турецком геноциде балканских славян при попущении Англии, вместо того чтобы невинно потупить глаза и «постить фоточки» на Фейсбуке, благо и Фейсбука тогда не было.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: