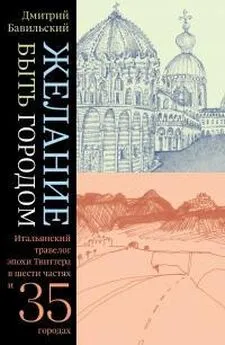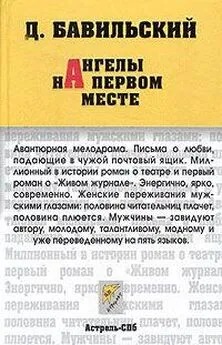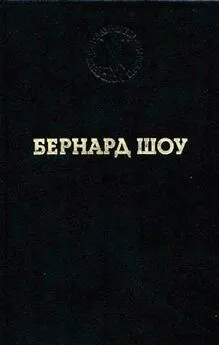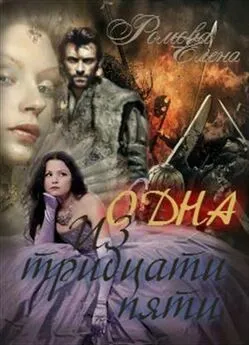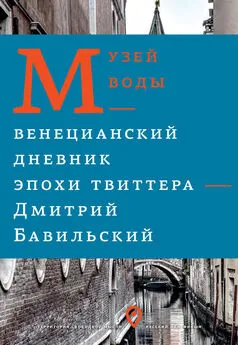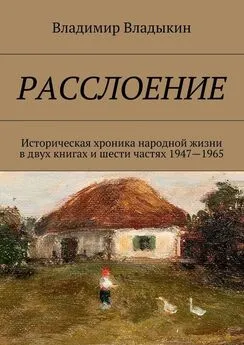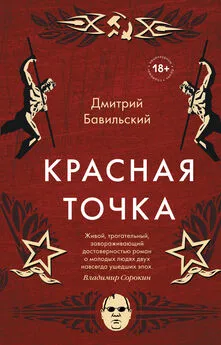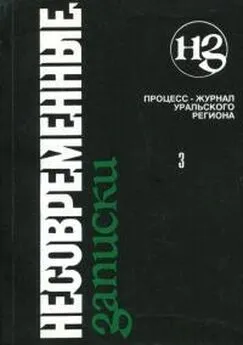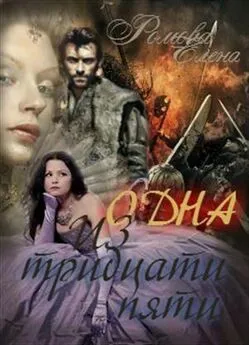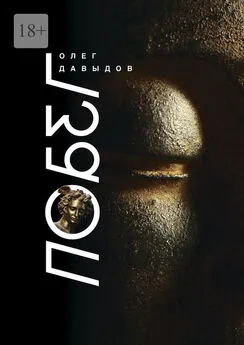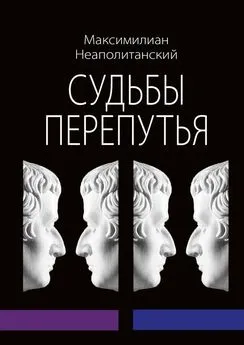Дмитрий Бавильский - Желание быть городом. Итальянский травелог эпохи Твиттера в шести частях и тридцати пяти городах
- Название:Желание быть городом. Итальянский травелог эпохи Твиттера в шести частях и тридцати пяти городах
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «ЛитРес», www.litres.ru
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Бавильский - Желание быть городом. Итальянский травелог эпохи Твиттера в шести частях и тридцати пяти городах краткое содержание
Желание быть городом. Итальянский травелог эпохи Твиттера в шести частях и тридцати пяти городах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Коллекции этих фрагментов плавно перетекают в основной зал, где отдельные демонстрационные столы посвящены разным частям человеческого тела со всеми внешними и внутренними подробностями. Выглядит весьма натурально и эффектно, хотя отдельные конечности напоминают мясную тушу, разделанную мясником.
Больше всего я зависал над муляжами, показывающими, например, устройство глаза, уха, носа, носоглотки, – эти восковые слепки заполняют отдельный смотровой стол, а также дополнительный стеллаж с артефактами совсем уже огромных размеров.
Потом экспозиция совершает еще один загиб, где акценты сделаны на строении мозга. Извилины и прочий головняк есть и в центральном зале, но здесь предметы XVIII века пополнены современными штучками – тонкими срезами полушарий и КТ. Между стеклянных шкафов висят гравюры и старинные манускрипты по анатомии.
Все это выглядит весьма меланхолично и достаточно отчужденно, из-за чего вызывает любопытство, а не отвращение. Естественнонаучные музеи оставляют меня равнодушным, им я предпочитаю художественные, а в заведения подобного рода почти никогда не хожу, разве что по дружбе или по службе, но тут же совсем иной случай.
Такие институции (как петербургская Кунсткамера или анатомический музей во Флоренции, подробно описанный в одном рассказе Эрве Гибера) для меня оказываются даже не «памятниками научной мысли», но портретами эпистем разных эпох. Чаще всего барочной или классицистической, с ее повышенным вниманием к изучению и описанию устройства мира, ну или же Ренессансной, как во Флоренции, которая просто шагала тогда впереди планеты всей и создала подобный музей (Museo di Storia Naturale – La Specola), если я не ошибаюсь, раньше всех.
Одно дело читать трактаты в хрестоматиях, написанных витиевато и требующих перевода на язык современных понятий, другое – делать этот перевод на «свой» язык автоматически, одним только взглядом.
Кроме того, разница времен (мировоззрений, эпистем, подходов) превращает эти предметы, автоматически облагораживаемые возрастом (даже если это бюст неандертальца или больной девушки, неожиданно похожей на Марину Абрамович), в антикварные раритеты, не лишенные эстетического измерения.
К тому же за всем этим стоит колоссальная работа, причем не только исследовательская, но и культурная – многочисленные имена ученых, скульпторов и мастеров, причастных к созданию болонской коллекции, перечислены в простенках между стеллажами, есть они и на сайте музея, вдруг кто заинтересуется.
Минус Моранди
Изначально сомневался, что в Болонье следует смотреть картины Моранди, однако импульсное побуждение победить не смог – шел мимо Музея современного искусства и не выдержал, ознакомился, тем более что MAMbo позиционирует себя как Музей Моранди. Но в этом утверждении – лишь часть правды.
В Болонье есть еще дом-музей художника, в котором он до смерти жил с сестрами (сейчас на ремонте), другой, загородный дом Моранди находится в пригородах, тогда как MAMbo обладает объемной коллекцией работ художника. Для нее выделено отдельное музейное крыло – галерея и несколько залов, тогда как весь остальной объем занимает типичный контемпорарий с временными (сейчас там инсталляция Болтански с колокольчиками) и постоянной экспозициями.
Понятно, что современные итальянские художники (начиная с Гуттузо) погрязли в социальной критике и беспричинных абстракциях (есть даже вполне причинный оп-арт), которых здесь больше, чем всего остального.
Бедное искусство, впрочем, сослужило нынешним итальянцам плохую службу – под предлогом институциональной критики в белые залы теперь можно тащить любой хлам. При этом запрещая его фотографировать (аккредитация нужна, как будто 6 евро за билет недостаточно).
Понятно, что Моранди везде одинаков, поэтому на первое место здесь выходит восприятие его как гения местности, на родине, в залах конкретного музея, не только создающего раму художнику, но и как бы диктующего ему акценты.
Тот почти религиозный трепет, которым оформители недавней выставки Моранди в ГМИИ (теперь я понимаю, что вышла она крайне представительной) окружили его картины и графику, в Болонье оказался выхолощенным.
Тончайшие натюрморты и пейзажи, ненароком отсылающие к шероховатым, неровным полям ренессансных фресок, у которых Моранди учился, тупо отрабатывали номер, занимая место на стенах. Возможно, дело не в картинах, но во мне, перегруженном впечатлениями. Тем более что современному искусству (и даже зрелому модернизму) невозможно тягаться с классикой. Пупок развяжется.
Я это понял еще в Сиене, в Санта-Мария-делла-Скала, обширные подвалы которой нуждаются хоть в каком-нибудь наполнении. Именно из-за этого то там, то здесь, «в листве сквозной, просветы в небо, что оконца», возникали разные концептуальные объекты, вымораживающие пространство вокруг себя. Даже если рядышком не было романских фресок или ранней готики, которой комплекс бывшей сиенской больницы напичкан до безобразия.
Дальше – больше: все муниципальные пинакотеки (впрочем, как и любая классическая история искусства) оказывались наглядным пособием по вырождению всего, что только можно, – силы, красоты, убедительности, «пластической осязательности» и второго дна.
Это вовсе не означает, что я перестал любить и ценить contemporary art, просто он больше других сфер человеческой деятельности завязан на определенный, определяющий его контекст. Который в этой моей поездке совсем не friendly второй половине ХХ века, ну и, разумеется, тому, что дальше.
………………………...............
В Болонье сейчас проходят два больших выставочных проекта, связанных с классикой модернизма.
Во-первых, мексиканские монументалисты в палаццо Фава: Сикейрос, Ривера и Ороско (до 18 февраля). Во-вторых, Дюшан, Дали и Магритт в компании с Арпом, Тэнгли и Ман Рэем в палаццо Альбергати (до 11 февраля). А в Пистойе, куда я чуть было не заехал, и вовсе показывают новый проект Ансельма Кифера (так что Эрмитаж в этом году не единственный киферовский эксклюзивщик). Но, честное слово, ноги туда совсем не идут.
Когда нет альтернативы, то можно, но когда приходится выбирать и, тем более, предпринимать специальные шаги, лучше довольствоваться проверенными средствами. К тому же для меня, может быть, нет ничего более жалкого, чем искусство, положенное контекстом на лопатки.
………………………...............
Однако Моранди. Он стал мне еще более понятен после экскурсии в местную пинакотеку, логически ставшую главной штаб-квартирой феерической, любящей масштаб и эффекты болонской школы. Нигде в Италии я еще не видел таких громадных живописных поверхностей маслом, нигде не сталкивался с таким количеством погонных метров выхолощенной драматургии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: