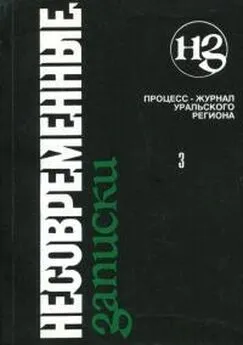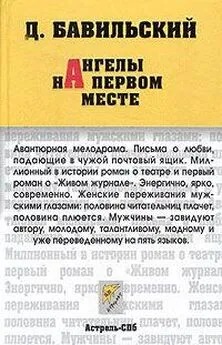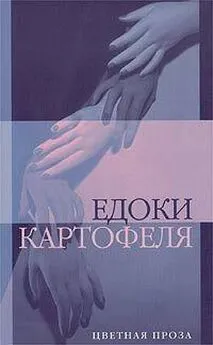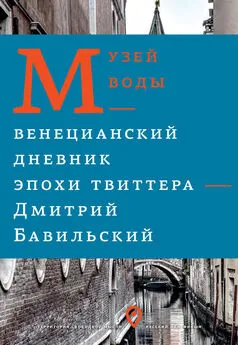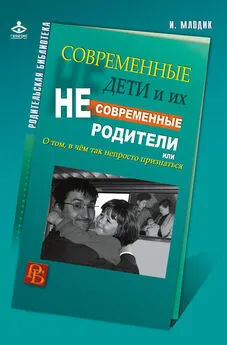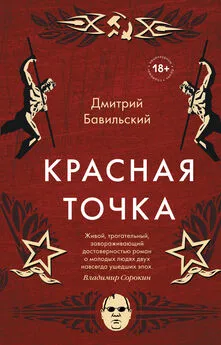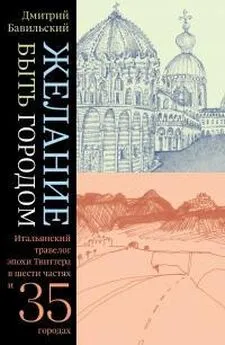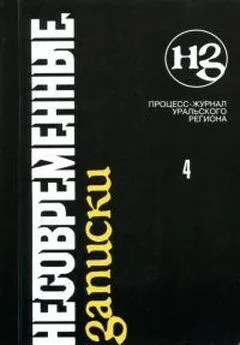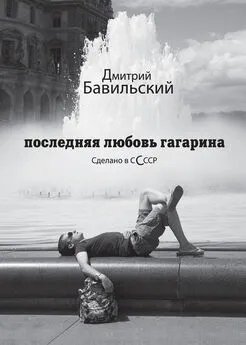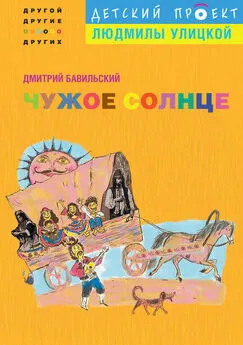Дмитрий Бавильский - Несовременные записки. Том 3
- Название:Несовременные записки. Том 3
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Фонд «Галерея», Фонд «Юрятин»
- Год:1996
- Город:[,б. м.]
- ISBN:5-87772-024-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Бавильский - Несовременные записки. Том 3 краткое содержание
Несовременные записки. Том 3 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Отказ от симметрии лишь частичный: всё-таки шаг расположения цветков сохраняется постоянным, размер их — примерно один и тот же. Этот отказ — не бьёт в глаза. Но как он может не бить в глаза, если рушится основа орнамента? Значит, основание его где-то глубже… Достаточно и квазипериодичности. Довольно примата формального начала, показа условности языка… Не так ли в современном кукольном театре кукловод говорит за куклу и ведёт её, но сам при этом не скрывается, сам — тут, на сцене. Но он — дубликат куклы, говорит от её имени. Нет, пожалуй, не так. Одно и второе — далече: мы принимаем условность в кукольном театре как искусственную посылку, искусственность которой мы сознаём, и на удержание её мы тратим силы, всё время возобновляя её усилием воли. В отличие от лубочно-фотографического орнамента подлинный орнамент никогда не переадресует к доорнаментальной реальности и сам не допускает её возникновения: он — самодостаточен. Дело, кажется, вот в чём.
Орнамент (китайский) — самобытно-чувственен. Чувственен в отличие от чертежа или графика, которые строго интеллектуальны. Самобытен он в том смысле, что не переадресует в отличие от картины, фотографии, чертежа и графика к другой реальности и не допускает её. Но такая его самобытность (включая броско-читаемость, как бы декларативность) — это как-бы-бытие. Сверх него орнамент имеет ещё как-бы-существование. Это его существование — его продуктивность: он сам производит и самовоспроизводит самого себя, и притом очевидным способом. В таком самовоспроизведении он устраняет своего автора, даже самую возможность помышления о таковом. Для обеспечения самобытности достаточно и квазипериодичности. Мало того, сознание (читающее орнамент) оказывается в большей мере задействованным как раз в орнамент квазипериодический, оно как бы привязано к нему в его существовании. «Квази» такой периодичности лишено броскости, в нём нет ничего вызывающего. Синтаксическая неряшливость (или хитрость?) — это подтекст. Но не подтекст содержания, а подтекст существования: это след внутреннего, живущего в пределах орнамента орнаментального со-автора, скромной собственной витально-орнаментальной свободы, никогда не переступающей рамок орнаментального самобытия. Это неброский намёк на измерение, которое отсутствует, флуктуация производительной силы орнамента. Арабский орнамент, всегда строго периодический (или строго симметричный) не имеет такого существования.
Вторая, не менее странная, особенность китайского орнамента — квазиобъёмность (№№ 32, 33). Отдельные цветки повёрнуты тыльной стороной, стороной цветоножки. Сверх того некоторые листья и лепестки вывернуты тыльной стороной наружу Настоящего объёма при этом не возникает. Но что, собственно, значит «настоящий объём»?
Почему орнамент «должен» быть плоским? — он этого вовсе и не должен. Он может быть рельефным. И даже ряд одинаковых скульптур — это тоже орнамент. Орнамент должен иметь один и тот же статус: рельеф — так рельеф. Что это значит? Такого рода экономия обслуживает самобытность орнамента: самобытность требует собранности в пределах узости. Орнамент должен быть скуп. Скупость обеспечивает его обозримость и опознаваемость как орнамента. Дисциплина внимания, отвечающая на эту скупость, может проявить себя как тщательность созерцания и, наоборот, как верхоглядство, воспринимающее только само присутствие орнамента. Тогда он звучит лишь в целом и как аккомпанемент. Вот такая двоякость чтения и верхоглядства, при котором орнамент принимается в своём простом наличии, — важное свидетельство самобытности орнамента. Его бытие носит как бы провальный характер: внимание проваливается в орнамент при его чтении: оно в конечном счёте состоит лишь в том, что самому чтению придаётся определённая ритмика. Эта ритмика — единственное содержание, единственное дарение, приобретение чтения. Мы не узнаём ничего (информация от искажённой синусоиды сетевого напряжения), мы не получаем никаких чувственных подачек — кусков, которые мы могли бы припрятать на потом: орнамент не вспоминают! Если же мы не читаем — глядим на орнамент в целом и сверху (верхоглядство) — то он редактирует само наше присутствие (в храме, павильоне, дворце), но сам не владеет даром слова, не обращается к нам.
Детали орнамента, намекающие на объём, имеют двоякое назначение. С одной стороны — это проявление упомянутой выше витальной свободы, флуктуации воспроизводительной силы орнамента. С другой стороны — это попытка раздвинуть тесноту, испытать на прочность принятые ограничения, прощупать изнутри необходимость именно такой экономии. Но делается это дело достаточно скупо: статус орнамента при этом удерживается: сознание удивляется орнаменту: само зрение в своей полноте оказывается внеорнаментально, но остаётся в пределах орнамента. Так укрепляется самобытность. И она даже фиксируется сознанием, но лишь в пределах чтения.
Но почему я, собственно, так упорно возвращаюсь к китайскому орнаменту? Чем он лучше русского? Почему именно орнамент и почему именно китайский?
Орнамент потому, что современный литературный текст — это орнамент. С той, впрочем, оговоркой, что закономерности орнамента проследить проще: орнамент достигает своего эйдетического предела. А текст — ещё нет. Орнамент полностью превратился из рисунка в пиктограмму, а текст — пока ещё нет. В зрелом орнаменте утрачивается значение исходного изображения, а зачастую о нём можно только гадать. И в тексте утрачивается так или иначе его «что». В обоих случаях доминирует интерес к самому процессу чтения, так что базовыми структурами оказываются структуры связанности. Для литературного текста они таковы:
связность,
самотождественность,
самовоспроизведение.
Это, собственно, три аспекта текста. Их можно прояснить так: мы едем в каюте парохода (по Каме). Выглядывая в окно время от времени, видим: река всё та же самая, по берегам всё те же хвойные леса (самотождественность). Глядя с носа и глядя с кормы, мы видим упреждающую волну, которая образуется от натиска судна за несколько метров перед ним, мы видим с кормы постоянно возобновляющиеся буруны винта, пену, брызги, расплывающиеся за кормой. Путь корабля всё время порождается им самим, он воспроизводится, вырабатывается от тех энергетических трат, на которые расходуется дизельное топливо. Наконец, связанность: прослеживая пройденный кораблём путь по бакенам, ориентирующим рулевого с берегов, мы видим, что пена, мазутные пятна, апельсиновые корки, расходящиеся буруны тянутся в направлении бакена, и упреждающая волна тоже обращена на свой бакен. Это моменты — конституирующие плавание по любому тексту, они не зависят от его «что», так же, как связность орнамента не зависит от того, изображает ли он гирлянду сцепившихся роз или сцепившихся драконов. Само не-существование драконов тоже совершенно несущественно для орнамента, как и возможная фантастичность того «что», о котором говорит текст: нам не важно, куда едет пароход — лишь бы плыл!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: