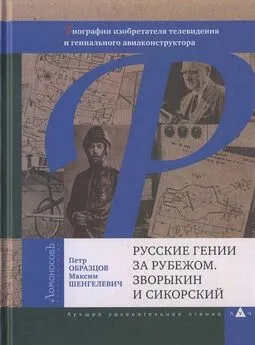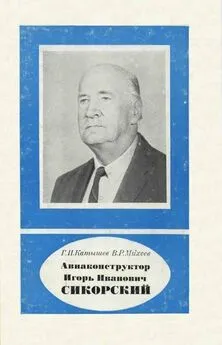Вадим Сикорский - Капля в океане
- Название:Капля в океане
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-265-00634-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Сикорский - Капля в океане краткое содержание
Главная мысль романа «Швейцарец» — невозможность герметически замкнутого счастья.
Цикл рассказов отличается острой сюжетностью и в то же время глубокой поэтичностью. Опыт и глаз поэта чувствуются здесь и в эмоциональной приподнятости тона, и в точности наблюдений.
Капля в океане - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Она начинена литературой. Иногда кажется, она живет где-то между строчек. А самые буквы строчек клюет, как птица зерно. Тем и питается. Она бывала много со мной.
Она изо всех сил старалась жить весело, легко, счастливо.
В своем объяснении жизни она обращалась с жизнью, как с гипсом. Она приноравливала мир и жизнь к неровностям своего ощущения. Но спорить умела здраво и логично. И по-мужски укладывала фразы, как рельсы. По прямой.
Она могла стать духовной циркачкой. Если бы в цирке нужно было мгновенно, по заданию публики, создать целую систему своих взглядов на указанный публикой же предмет, она бы это могла. Взглядов, которых у нее раньше и в помине не было.
Болтовня просто ей шла, как прическа. И она это понимала.
Иногда она выглядела даже жестокой. Ей все равно: что попудриться, что высказаться. И все ради кокетства. Цель одна — выиграть в глазах собеседника. Ее не интересовал сам предмет разговора. Иногда казалось, она взбивает свои фантастические мысли как волосы. И все ее построения держатся на невидимых заколках и шпильках, и удивительно, как это прическа не рассыпается.
А она еще попутно не забывала о самых выигрышных для нее жестах и поворотах головы.
Иногда заходил разговор о чьей-то смерти. И она говорила о трупах и при этом беспрестанно и ревниво следила за лицом собеседника. И кокетничала трупами. Играла, как бомбоньерками.
Глаза — словно вырезаны на лице стаканом.
Тело ее все время будто бы исчезало. Где-то в ее словах. Таяло где-то в ее необозримых глазах. Таких, что веки казались горизонтом. Пряталось, как в ветвях, в интонациях голоса.
Ее праведная верность мужу победила мою безнадежную влюбленность. Иногда я пытался грубовато ухаживать за ней. Но это было, только чтобы ее позлить. Сейчас я ее знал в совершенстве. И понял ее подвижническую борьбу за существование, за существование себя как женщины.
Я трудно научился воспринимать и оценивать по-разному.
Вот моя неграмотная соседка. Заскорузлое лицо. Одежда лоскутная. Застиранная ветошь. С виду стоимость такой женщины, ценность ее существования на земле меньше, чем галки. Да и если бы воплотить в видимое ее мысли, они походили бы на замерзшую осеннюю глину. А доброты в ее сердце, а любви в ней к людям больше, чем нефти в недрах.
И преступно проходить мимо этих недр. И безумие — презрительно их не замечать. Потому что именно они, вот такие именно, как у нее, доброта и любовь, скрытые под серой заскорузлой поверхностью-внешностью, спасают нас от холода, приводят в движение двигатели добра. И мы не задумываемся. Мы пользуемся удобствами доброты и любви. Как не задумываясь пользуемся автомобилями, самолетами, которые движет нефть.
Пользуемся эгоистически: нам удобно — и все. Мы катим себе или летим, болтая, дремля, читая. И не думаем о крови, бьющейся в моторе.
Валентина много и охотно рассказывала о себе. Причем, говоря «я», она как бы видела себя со стороны. И заметно было, что она любуется собою. Рассказ — как бы зеркало, создаваемое ею для того, чтобы она сама и другие могли любоваться ею со всех точек зрения. И, рассказывая, она наблюдала себя со стороны, изучала себя радостно, во всех подробностях. А в том, что она стоит такого внимательного изучения, она даже усомниться не могла и не давала усомниться слушателю. Она вертелась перед этим зеркалом. И мысли ее вертелись перед ним. И чувства. Вертелись перед этим зеркалом и хорошие поступки ее, и постыдные и любовались собой. Художник не стесняется рисовать обнаженность, если она прекрасна. Так и она не стесняясь рисовала и себя и свои поступки. Считая все в себе прекрасным.
Рассказывала она хорошо. Происшествий и событий было мало в ее рассказах. Но разве обязательно что-то должно произойти в хорошем повествовании? Главным образом должен произойти человек. И если он произошел без вмешательства длинноразвивающихся событий, он существует и имеет все права поэтического гражданства.
И я мог часами слушать ее болтовню о болтовне с кем-то. Ее реалистическое изложение настроения и поведения своих разновременных и бесчисленных поклонников.
Сейчас она смотрелась в зеркало рассказа и видела себя ту, двадцатилетней давности. Она кокетничала собою т о й, играла собою той, как куклой. И принаряжала эту куклу, и причесывала. И ставила в романтические обстоятельства.
И если она произносила слово «гроб» или слово «ранение», то с такой интонацией, чтобы оно сверкнуло в ее болтовне как мрачная брошка. Черное, но украшение. Так надевают траур кокетки, долго примеряясь, к лицу ли им черные складки.
Даже саму войну она описывала так, что вторая мировая война, Отечественная война, делалась при помощи каких-то неисповедимых Валентининых красок лишь выгодным черным фоном, резко оттеняя ее бледное, с выражением беззащитности, красивое лицо и глаза.
И о палате с челюстными ранениями она сейчас рассказывала так, что жалость к разбитым подбородкам и вывороченным челюстям оказывалась не главным чувством. А главное — целостность и совершенство ее подбородка. А она, фея челюстей, читала своим раненым вслух, быстро и внятно работая здоровым язычком и быстрыми крепкими губами. И кормила раненых нежно и снисходительно, пропуская через их носы резиновые катетеры. И вливала им в кишки через эти катетеры тюрю из молока и тертого картофеля.
И вот после нескольких лет дружбы, как раз во время ее рассказа о работе в госпитале, я вдруг впервые обнял ее и поцеловал. Она не сопротивлялась. По-видимому, из-за шока, вызванного неожиданностью моего любовного нападения. Я увидел ее лицо, я понял — она контужена поцелуем. Она сказала, а каждое слово было победой над истерическим всхлипом:
— Если это еще повторится, мы больше никогда не увидимся.
Я притворился кретином.
— Да что произошло?
— Никогда, слышишь, не увидимся. — Она переборола истерику. И говорила: — А жаль. Я люблю тебя, как брата, он, ты знаешь, погиб на войне. А ты же знаешь, я люблю Борьку (ее муж). Так к чему же ты это…
Она стала — словно я только с ней познакомился. Совершенно естественна. Ей было не до кокетства, то есть не до искажения себя в лучшую, как ей казалось, привлекательную сторону. Сейчас она себя не искажала. И была еще лучше. Руки ее дрожали. Я продолжал нетрудную роль кретина:
— Да я не понимаю, что особенного?
Она поймалась, потому что объясняла серьезно:
— Для тебя это, может быть, ничего не значит. А я ко всему этому отношусь особенно.
— Это в наше-то время? — проговорил я-кретин.
Я говорил многим: я и умру с пошлостью на устах. Мне всегда казалось, уж мне-то пошлости простительны, столько, как мне казалось, я говорю остроумного и глубокого. А что мне остается делать, с моим косоватым глазом и не очень молодым организмом, как не блистать остроумием? Последнее время я стал, правда, во всем менее уверен. Да и самоанализом заниматься не хватает времени. Надо бы выделять на работе к перерыву на обед полчаса на самоанализ. Дома не до этого: домочадцы! Хотя я понимал, человек пишется временем, как огромное полотно. И сложнейшая картина души мало меняется с прибавлением технических достижений. Как мало меняется картина звездного неба, какие бы катаклизмы ни происходили на земле. Атомная энергия не имеет никакого отношения к проблеме любви и ненависти. Она только новое средство в борьбе добра и зла, любви и ненависти. Я понимал только одно: чем больше власть разума, тем сильнее должна звучать проповедь добра. Но я не замечал, что, говоря проповеди, я часто служил злу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: