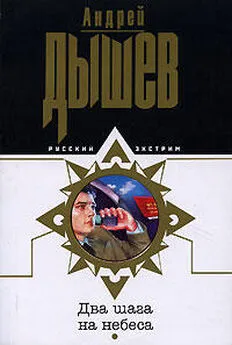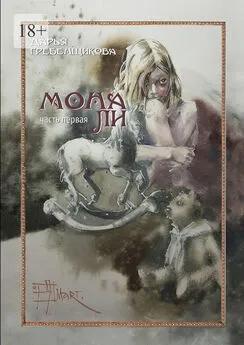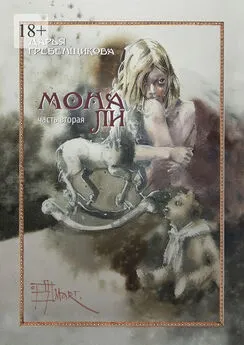Дарья Гребенщикова - От меня до тебя — два шага и целая жизнь
- Название:От меня до тебя — два шага и целая жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:17
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дарья Гребенщикова - От меня до тебя — два шага и целая жизнь краткое содержание
От меня до тебя — два шага и целая жизнь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Через год она расцвела совершенно. Чистых сиамских кровей, в невероятной, пепельного дымка шубке и с угольным хвостом, изломанным на конце чтобы удерживать кольца принцесс, омывающих свои тела в бассейнах с ароматическими солями, с глазами раскосыми и нежными — она покоряла любого, кто ее видел, и никому не давалась в руки. Бабушка стала звать ее Майкой. Понимая, что природа требует своего, стиснув зубы, терпели истошные Майкины вопли, закрывали форточки и запирали балконную дверь. Не усмотрел Мишка, опаздывавший в институт.
Месяц все по очереди писали объявления о пропаже кошки и, таясь от соседей, клеили их на дверях подъездов и на автобусной остановке. Майки не было. Бабушка слегла с давлением, мама курила на балконе, всматриваясь в неверные вечерние тени, папа вдруг полюбил ночные прогулки — для «моциона». Мишка был погружен в любовь и в сессию и пропажи не заметил вовсе.
На дачу собрались выехать раньше обычного. Грузчики таскали коробки и тюки, и никто не обратил внимания, откуда появилась Майка. Она потерлась щекой о мамины ноги, сказала «урр-рр?» — «Вы меня не ждали?» с истинно королевской невозмутимостью.
Дверь была немедля заперта на ключ, папа — отослан в молочную, бабушка принялась было целовать любимицу, но та, подойдя к двери, сказала «уррр» и посмотрела на ручку двери. Мама выглянула и увидела на коврике шелудивейшего из котов c разодранным в кровь ухом и бельмом на глазу — Короля помоек. «Пшел вон», — сказала мама, пнула кота ногой и закрыла дверь. В ту же секунду Майка, их сиамская принцесса, буквально разрезала обивку на полосы и села, глядя на дверную ручку.
На старой даче в Малаховке Майка принесла бабушке в ящик комода семерых котят. Король помоек, осмотренный лучшими ветеринарами, сгинул с дачи, как только зажило ухо.
Зита и Гита
Николай Николаевич Лансерме, худощавый молодой человек со впалыми щеками и резкими надбровными дугами, которому судьба определила быть скорее музыкантом, чем художником, состоящий в родстве едва ли не со всеми основателями кружка «Аполлонова квадрига», стал к тридцати годам своей жизни существом болезненным, одержимым меланхолией, с нервами, трачеными всеми вероятными способами и — абсолютно нищий. Впрочем, в советские годы нищета была понятием условным. Николенька, как его звали в семье, был баловнем и любимчиком. Маменька его, Елизавета Шубникова, все еще концертировала, а сам Николенька жил, преподавая рисунок и живопись. Тайной и неодолимой страстью Лансерме были лошади. Предки Николеньки много времени проводили на Кавказе, где невозможно было избежать такого соблазна — любить лошадь. Ленинград давал возможность посещать Московский ипподром, но чаще всего Николенька бывал в бывшем Цирке «Чинизелли», на набережной Фонтанки. Завороженный, следил он за номером, исполнявшимся наездницами Зитой и Гитой на лошади буланой масти, с черной гривой и в черных же носочках с белой каймой. Девушки творили что-то невообразимое. Николенька, уж давно принятый за «своего», приходил с блокнотом, и, сидя на «директорском» месте, все рисовал, рисовал… Сложно было не влюбиться, и Лансерме — полюбил. Глаза его, вида скорее восточного, были темны и глубоки, полны приязни и затаенной скорби. Тонкая полоска усов, прикрывавшая страдающие губы — все это делало его безнадежно неинтересным для молодых дам. Гита, Гитана, Житан, Цыганочка, Кармен… чего только не пел ей Николай Николаевич, каких только перстней, сбереженных предками, не надевал он на её сильные пальцы, пахнущие лошадиным потом. Всё было тщетно. Как и свойственно героям русской литературы, Лансерме бросил Ленинград, и скитался за цирком, сопровождая обожаемую им наездницу. Та, будучи неглупа от природы, привыкшая жить широко и неоглядно, разорила и без того небогатого художника. Приближающаяся перестройка позволила торговать лошадиными головками «на вынос», и Лансерме, прикрыв лысеющую голову беретом, посиживал в местах, где шиковал иностранец. Гите Лансерме порядком надоел, а вот Зита… Зита, Зинаида Бурмак, девушка простой судьбы и сильной воли, любила Николая Николаевича. Но была им отвергнута, и не однажды. Так и прыгали девушки в ярких трико, и несла их на себе чудесная лошадь по кличке «Норма», и колыхался султан на ее голове, подобострастно повторяющий цвета триколора. Как-то, отвязавшись от ставшего обузой Николеньки, Гита уговорила Зиту на небольшой, но хорошо оплачиваемый тур по Европе, и вот там они, срывая овации, взвивались буквально под купол цирка, а Норма летела по кругу, едва сдерживаемая лонжером. Кто теперь скажет, откуда и почему полоснул по глазам лошади лазерный луч, кто бросился первым на манеж — но Гита лежала в опилках, а Норма тянула к ней мягкие губы и тихо ржала. Случилось все в Праге, и не было медицинской страховки, и Зита звонила Лансерме уже в Санкт-Петербург, и кричала, кричала, кричала… и Николай Николаевич, пав на колени перед матерью, целовал ей руки и умолял о деньгах, и мать, сжав губы в полоску, не проронив ни слезинки, смотрела на пустые фаланги пальцев, и, прямая, как виолончель, не глядя, подписала документы на продажу квартиры. И Николай Николаевич мчал перекладными в Европу, и холодная Прага встретила его белейшим, как саван, снегом, но он нашел Гиту в муниципальной больнице — сухонькую и бестелесную, лишенную каскада иссиня-черных волос. Живя при больнице, выполняя унизительную и привычную санитаркам работу, он ходил за любимой женщиной, как ходят за той, что заменила собою — жизнь. В один из дней Гита выплыла из опилок манежа, узнала Лансерме и написала на ворсе одеяла имя — Норма. Николай Николаевич, бледнея лицом, вывел (а точнее, свел, украл!) из цирковой конюшни Норму, узнавшую его, и тепло дохнувшую ему в ухо. Он вёл ее в поводу мимо Виноградского кладбища к больнице, и со стороны это смотрелось так печально, что пражане качали головами. Кровать Гиты придвинули к окну и приподняли — и Лансерме стоял под хлопьями рождественского снега, держа в поводу буланую лошадь, и снежинки садились на ее спину и черную гриву. Лошадь поднимала голову, будто искала Гиту в окне, но видела только больных, прилипших к окнам. Норма, — отчетливо сказала Гита, и лошадь, услышав это, прянула ушами.
На поправку Гита пошла, хоть и не скоро. Впрочем, сам Лансерме, возивший ее буквально на себе по всем чудодейственным курортам Европы, был ею отвергнут. Николай Николаевич обрюзг, постарел, не успел приехать на похороны матери и поселился в том месте Европы, где лошадь — даже больше, чем лошадь, — в Камарге, во Франции.
Встречи на Трубной
Они всегда встречаются на Трубной, у выхода к цирку, 12 числа. Зимой — в декабре, весной — в марте, летом — в июне и осенью — в сентябре. Так повелось — у Глеба день рождения 12 марта, у Маши — 12 сентября, 12 июня они поженились, 12 декабря родились близнецы Полина и Александра. Глеб высокий, сухощавый, Машка дразнит его «профессором», и напрасно — Глеб Ордынский действительно профессор, и его обожают студенты, и особенно — студентки, он эрудит, энциклопедист даже — образован прекрасно, добирал упущенное в перестройку в крупном Университете США, и попал, что называется, в «струю» здесь, и приближен и обласкан властью, не фрондер, не конфликтен, аккуратен в высказываниях. Читает лекции по по всему миру, да что говорить? Пишет книги. Жизнь удалась. Машка, напротив, вечно растрепана, и никогда не бывает, к досаде Глеба, «ухожена». Машка не выносит всякие строгости в одежде, может надеть что-то совершенно не сочетаемое, обожает платочки и беретки, которые делают ее похожей на немолодую школьницу. Но у Машки всегда масса новостей, энергия из неё переливается в Глеба, и вот он уже смеется, и сама Машка хохочет во все горло, рассказывая очередную ужасную историю. У Глеба «историй» не бывает. Разве что неоплаченная парковка? Или спор с его вечным оппонентом, датским профессором из Копенгагенского университета? Впрочем, в последнее время у Глеба стало подниматься давление, но он, конечно же, пройдет полное обследование в лучшей клинике Москвы. Они поднимаются вверх, по Сретенке, к их старому дому, который еще стоит, удивляя их обоих — им иногда кажется, что именно этот дом, из доходных, начала 20 века, со сквозным проходом, с окошечками кухонь, выходящими в садик — ждет их до сих пор. Но квартира Ордынских давно продана, и удачно, и Глеб, великодушно купивший Маше и девчонкам трешку в Бирюлёво, чувствует себя едва ли не благодетелем. Сам он, впрочем, выждав по съемным квартирам, взял то, что хотел давно — Ордынку, конечно же! Ордынский — на Ордынке! Квартиру свою обставлял долго, с тем тщанием, с каким профессионал собирает свою коллекцию, и наполнял дом теми предметами, какие до сих пор еще виднеются на любительских снимках начала прошлого века. Не на парадных портретах из ателье, а именно — на карточках. Мутных, желтоватых карточках. Появилась люстра стиля арт-нуво — матовый крапчатый стеклянный куб, с замысловатыми коромыслицами из бронзы, тренькающая матовыми сосульками, подвешенными на пружинках, буфет — русский модерн, грубоват, но хорош! Просто талашкинские мастерские — будто чьи-то знакомые руки вырезали птиц Сирина и Гамаюна на дверцах, прошлись резцом по ящикам — и ожили то ли ящерки, то ли змейки, и буфетные бронзовые ручки, отполированные чужими прикосновениями, так легко легли в Глебову руку. Появились сервизы, письменный прибор со слепой Фемидой, крошечные фигурки китайских болванчиков — да что говорить? Глеб пропадал на лучших блошиных рынках Европы, из которых более всего любил Лондонский Portobello Road…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: