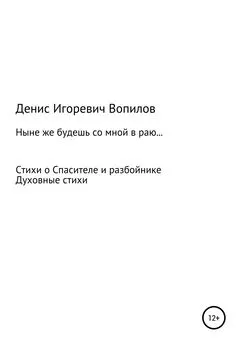Тадеуш Новак - А как будешь королем, а как будешь палачом. Пророк
- Название:А как будешь королем, а как будешь палачом. Пророк
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс
- Год:1980
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Тадеуш Новак - А как будешь королем, а как будешь палачом. Пророк краткое содержание
Во втором романе, «Пророк», рассказывается о нелегком «врастании» в городскую среду выходцев из деревни.
А как будешь королем, а как будешь палачом. Пророк - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Готовилось большое приданое, о котором Франек давно мечтал, в ночной тишине высматривал, в любовном чаду вынюхивал, приданое для Ады, Адочки, заменившей Тоську, за океаном обогатившуюся. Оттого мы каждый день удирали в город, в предместье, засиживались в клубе до полуночи, подливали спирт в стакан, болтали, пели песни, терлись по-кошачьи о бабью ласковость, беспомощность, вдовство, долгое одиночество. Оттого оставляли дома обеих женщин, втайне ласкаемых, называемых невестами, загодя наряжаемых в фату, в платья белые, поющих, плачущих, томящихся в ожидании первой брачной ночи, поездки со свадебным кортежем по городу, украшенного цветами алтаря, veni creator на органе, щедро оплаченного. Франусь женился, мой односел, друг-приятель, с которым мы не раз под одной попоной спали, не думая женился, как бы нехотя, на вымахавшей с версту сиротке, на иссохшей вдовушке, ту и другую вел под венец. По ночам женился и днем, словно святой дух в него вселился, в нашего Франека, вечного жениха, богатыря, не умеющего избыть силушку.
А у меня женитьба никак не клеилась, не завязывалась узлом, не закручивалась, не подкатывала к дому на бричке, на тачках, на старом велосипеде. Все реже заглядывал я к Матильде, все реже снимал со стены серпы, потерявшие последние зубы, ситечки, отцедившие свое молоко, свое время, покоробившиеся от жары подойники, косы, насаженные на косовища, покрытые, будто засохшей кровью, ржавчиной. Горсти пшеницы не мог скосить, серпом срезать, не мог муки на подовую лепешку через решето просеять, подойник молока надоить, чтобы было на чем поставить для свадебного пирога тесто. Как попало, без толку, можно сказать, как мышь по амбару, рассы́пался я по городу, разбежался трусцой, оставляя кое-где паутинки, точно паук, охотящийся на золотую муху. Светлые вечера, все выше взбирающиеся в небо над крышами, дни, один веселей другого, крапчатые от солнечных пятен, были у меня теперь заняты. Да и Франусь расползся, как чистотел, как заячья капуста, нежился у Адельки под боком, в клуб на окраине города, как к себе домой, захаживал, каждый божий день рассказывал там свои байки, притчи одну на другую нанизывал, тянул долго, назойливо. Краснословом его на третий вечер прозвали, войтом, газдой [26] Крестьянин, зажиточный хозяин у гуралей в Татрах.
войлочным, языкастой трещоткой.
— Краснослов, войт, газда овечий, войлочный, — подкатывались к Франусю. — Почтеннейший наш оратор, оседлавший слово, до самого его корня добравшийся, рассказали бы вы нам про лошадь. Мы, конешное дело, знаем, она живая, не на шпеньках, не на болтах-винтах, не на зубчатых колесах, как грузовик, как трактор, однако тянет, пашет, к тому же ржет, а в рождественскую ночь даже говорит человеческим голосом.
— Мужику в деревне лошадь ближе брата и отца родного. Ибо лошадь пашет и боронит землю, жито с поля свозит, картошку и сено. Опять же терпенья у нее поболе, чем у отца, у брата, у матери даже: мать всегда в печали, ведь во всех часовнях непременный образ матери скорбящей. Лошадка что попало городить не станет и драться не полезет, кнутом без причины по спине не съездит, не смажет по морде, не стукнет оглоблей и мотыгой не тяпнет. Сжует свое сено, вытащит по стебельку языком и губами, мягкими, как лопух, мохнатыми, как белокопытник, выберет овсинки из колючей сечки, выспится стоя, почешется о жердь, опростается всласть и снова бодра-весела, хоть сейчас впрягай в плуг, в борону, в телегу, а в праздник и в бричку. Лошадь всегда одинаковая, терпеливая, как бог, как святой, как апостол. Лошадь, и все тут. Лошадь.
Лошадь, корова, ба, даже коза, собака, дремлющая целыми днями в своей конуре, облаивающая августовский сад, обсыпанный грушами, выкусывающая из шерсти блох, повизгивающая от наслаждения, когда ей удается добраться клыками, высунутым на метр языком до хвоста, до паха, искусанного мухами, слепнями, замаранного пометом, грязью, в рассказах Франека превращались в обитателей рая, прямиком спустившихся к нам на землю, в отцов церкви, в святых мучеников, в отшельников, питающихся корешками пырея, дождевой водой, что капля за каплей собирается в расщелинах скал.
Слушали Франуся, посмеивались, по спине хлопали, аж звон стоял, подначивали, чтобы продолжал рассказывать свои байки. Девушки завитые, принаряженные, словно только что вернулись с майской прогулки за город, парни, лоснящиеся от бриолина, кольцом обступали Франуся, слушали с благоговением, вдыхали навозные, черноземные, потные запахи. Руки время от времени протягивали, чтобы из Франековых россказней надергать желтой папировки, липкой от воска, с угнездившейся в сердцевине осой, шершавой малиновки, сверху, словно снятые иконы, покрытой олифою, холодной от росы, щербатой от дождя, чтобы нарвать дикой сирени, цветущей мелким цветом за овином, на свалке, наломать настоящей, турецкой сирени, заткнуть лошади за недоуздок, вскочить ей на спину и помчаться, щелкая кнутом, с гиканьем, с пальбой из игрушечного пистолетика на выгон, оплетенный, обмотанный паутиной, липнущей к лицу, лезущей в глаза, на осенний луг, посеребренный стелющимся над кострами дымом.
Картошку в этих кострах пекли, вытаскивали голыми руками, сломленным над ручьем ивовым прутиком, дубовой веткой, раскаленную, сыплющую искрами, перебрасывали с ладони на ладонь, обтирали от угля, от сажи, от золы, макали в крупную соль, в масло, в жестяной кружке привезенное, разламывали до белой мучнистой мезги, рассыпающейся комочками, подцепляли языком, губами, сложенными в свиное рыльце. А сколько крупной репы, пахнущей внове отлетевшей душой, вовек неразгаданной тайной, было надергано за зеленый волос, за ботву, сколько бугристой брюквы, твердой, как шрапнель, маслянисто-золотой и телесно-белой, было очищено зубами, расколото, нарезано ломтями ножиком с деревянной ручкой!
А потом купались в реке, в мелком ручейке, протянувшемся через луга, словно вскрытая артерия, в которой вместо крови звенит живая вода. Прыгали в воду с берега вместе с молодым, только народившимся месяцем, едва прорезавшимся из-за леса, вместе с просом, со звездной россыпью, сковавшей Млечный Путь тонкой ледяной корочкой. Степенно входили нагишом в расплескавшиеся среди тростника заводи, в заросшие аиром озерца, чтобы на середке, где всего темней, всего глубже, повстречаться с мальчишеской своей робостью, вдруг обернувшейся девчоночкой. А потом носиться, пока не захватит дух, по недавно скошенному лугу, вновь зазеленевшему к осени, набрякшему от росы, упадающей бесшумно и беспрерывно, как повелось с незапамятных времен.
Часто мы целым гуртом отправлялись в разбросанные по другим предместьям дома культуры, клубы, с которыми давно завязали дружбу, выставив в нужный момент бутылку, подарив тайком пару голубей, вызволив дружка из отделения милиции, из кутузки. Мы бывали на всех собраниях, торжественных заседаниях, совещаниях в окрестных фабричках, в мастерских. Как-то даже встречали на привокзальной площади важную делегацию из столицы, долго забавляли гостей беседой, играли чувствительные мелодии на кларнете, на губной гармошке, на сорванном с дерева листке. В газетах про нас много писали, фотографии помещали: мол, вроде сами из деревни, только-только из-под соломенной стрехи, из-под снежных заносов, а уже верховодят в предместье, от драк, от воровства отвращают, придумывают интересные развлечения. Мы повырезали эти заметки, эти расплывчатые снимки, наклеили на картон, над кроватями повесили, клубу нашему подарили. С тех пор нас стали величать артистами, вручили, раз такое дело, грамоты, благодарности, отстуканные на машинке, а одну, написанную от руки, прислали вдовушке.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
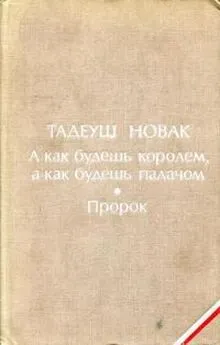



![Марина Весенняя - Дикая. Будешь моей женой! [litres]](/books/1077956/marina-vesennyaya-dikaya-budesh-moej-zhenoj-litres.webp)