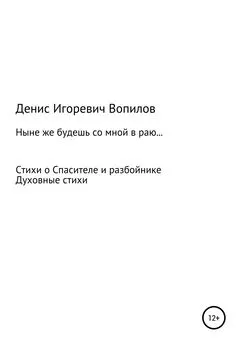Тадеуш Новак - А как будешь королем, а как будешь палачом. Пророк
- Название:А как будешь королем, а как будешь палачом. Пророк
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс
- Год:1980
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Тадеуш Новак - А как будешь королем, а как будешь палачом. Пророк краткое содержание
Во втором романе, «Пророк», рассказывается о нелегком «врастании» в городскую среду выходцев из деревни.
А как будешь королем, а как будешь палачом. Пророк - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Милости просим, — запела Матильда. — Заходи, долгожданный гость, рожденный на лугу, на ниве, за овином, в запечье, в гусятне, где всего теплей, всего уютней, всего милее.
И разным зерном: рожью, пшеницей, колядным овсом, овсом серебряным, позванивающим, как удила, как новорожденное ржанье, просом мелешеньким, словно кто его смахнул со звездного неба, с ног до головы меня обсыпала.
— Добро пожаловать, лоза зеленая, мелким листом усыпанная, добро пожаловать, кмет взаправдашний, всем кметам кмет, самый что ни на есть доподлинный, каждой своей клеточкой, каждой частицей тамошний, с поля, из ивняка, из сорной травы, из березовой рощи, из реки, родника, прозрачного ручья, промерзающего до дна, до песка, до рыбы, вьюна, рака в твердом панцире, пахнущий коровой, лошадиными ноздрями, навозом, птичьим пером, пушистой кошкой, лазающей по плетню, с колышка на колышек перепрыгивающей. А пришедши в первый раз, приходи всегда, мы тебе всей душой рады.
Тут и родители Матильдины притрусили с хлебом-солью на вышитых рушниках, с веткой, увешанной золочеными орехами, яблоками, увитой травами, колосьями. В пояс нам поклонились, закричали павлинами:
— Добро пожаловать, милости просим в наши скромные хоромы.
Сами в краковских нарядах: сермяга, платье, расшитый кафтан, шапка с павлиньими перьями, венок, сплетенный из сухих васильков, широкий, кожаный, позвякивающий колечками пояс, смазанные дегтем яловые сапоги, собирающиеся гармошкой над лодыжками. Песню про любовь завели в два голоса, поклонившись, встали у порога, приглашая в комнаты, как они выражались — в горницы.
А в горницах мельтешило в глазах от раскачивающихся на нитках паучков из соломинок, из разноцветных облаток. Серпы, много серпов, отработавших свое, съеденных травами, колосьями, крапивой, лебедой, овсяницей, потерявших на жатве последние зубы, висело на стенах, как на небесах, голубовато выбеленных, и каждый прикидывался молодым месяцем, только-только прорезавшимся из вечности. Темно было от кос, насаженных на косовища, скрещенных, смазанных деревянным маслом, подвешенных на гвоздях, на подковных шипах. А над косами, почти под самым и толком, под бревенчатым накатом рядами свисали с подперемычных брусьев картузы, красовались шапки с павлиньими перьями, болтались зеленые трилистники, разные гербы, склеенные из еловых чешуек, из зерен, из мелко порезанных, старательно расправленных в пальцах соломинок. На передней стене в венце из множества пик, сабель, кос висел вождь, сам Костюшко, в венгерке, в сермяге, расшитой суровыми нитками, едва ополоснутой в ручье шерстью. Я поклонился вождю земным поклоном, проговорил скоренько что-то вроде молитвы и позволил Матильдиным родителям силой усадить меня на стоявший у стены сундук. Сел и ногу в лакированном полуботинке неосторожно поставил на перекрещенные под столиком досточки, на перекладину, а столик возьми и закачайся, и, качаясь, превратился в колыбель, в люльку, расписанную петухами, васильками, маками.
— Малыш, малыш, маленький ваш будет тут лежать, — вскричали родители, радостно в ладоши захлопали. — Тильдю в этой колыбели вырастили, вырастим и внучонка, настоящего, взаправдашнего, от мужицкой крови рожденного.
— Вырастет, — скомлил я про себя, — наиграется, выйдет в поле с серпом, с косой, подпоясанный расшитым кушаком, в холщовой рубахе, выпущенной поверх штанов, застегнутой у шеи на вишневую косточку, запоет о бычках, о гусях за рекой, упадет посреди выгона на колени, прочитает «ангела господня», и посыплются на него с небес перья, вечерняя, широко разлившаяся заря потечет в корыто, из которого поят скотину, чтобы он мог выкупаться, дочиста отмыться.
А сам в это время бессознательно старался развязать, спрятать незаметно в карман, засунуть под рубаху плетенный из шерсти галстук, сбросить с ног лакировки, мохеровые носки, сверкнуть у них перед глазами недомытой пяткой, переплести все пальцы на ногах, выковырять из них грязь, траву, зерно, скатать шарики и те, что потверже, бросать об стены, где висят колеса от телеги, колокольцы, хомуты, подойники, бадейки, черпаки для молока и для сыворотки, ситечки, решета, скалки, кадушки, толкушки, раскрашенные ложки, деревянные половники.
Залился вишневой, как вечерняя весенняя заря, краской, вспыхнул, выдавил сквозь зубы:
— Инда, вестимо, — и давай неловкими, пахнущими глицерином пальцами длинные, до плеч, волосы, вроде бы городские, но на самом-то деле холопьи, пястовские, расчесывать, чтобы не отставать от них, быть под стать ихнему, чудом перенесенному из деревни в город дому.
— Скотина у меня есть, поле, луг, — бормочу. — И дом деревянный, беленый, с голубоватым отливом, проконопаченный мхом, сплетенными в косы стружками и с дощатым резным — в синичках, снегирях, весенних и зимних птахах — зеленым крыльцом, глядящим на выгон, на луга, на лес и еще дальше маленькими оконцами, засиженными мухами, пауками, птицами, рассевшимися на стучащихся в стекло ветках сливы. А ежели выйду с косой, ого-го, ежели выйду с косой, ввечеру отбитой молотком на бабке, зубастой, зазубренной, трава передо мной так и ложится, так и стелется, словно, с позволения сказать, зеленая вода, словно верующие в пророка Магомета великие, внезапно измельчавшие народы, что в оные времена пришли к нам с зелеными хоругвями. И жито передо мной ложится, преклоняет свои коленца, шелестит тонкой медью, вызолоченной солнцем, ржаное, пшеничное молоко по полю, по стерне разливает, истекает белой кровушкой, словно я не на жатве, а на войне, на фронте, среди обученных на славу пястовских дружинников. Иной раз срежешь вместе с луговой травой куропачье гнездо с еще не насиженными крапчатыми яйцами, фазанье гнездо, звезданешь зайчонка по пазанкам, и тот запищит, заплачет хуже ребенка, что лежит в подмоклой борозде на платке, зажав в кулачке неосторожную ящерицу, лягушку, вознамерившуюся полакомиться сахарным песком, облепившим малышу губы. И собака у меня есть, и коза. Собака так скулит, словно рассказывает сочиненные на ходу небылицы о воре, подкрадывающемся к сладким вишням, к кудахчущему сквозь сон курятнику, к гусятне на дальнем выгоне, где гогочут не знающие сна гуси по примеру своих родичей из знаменитого города, откуда пришел к нам Христос, прилег поутру в деревянных яслях, выстеленных соломой. А коза так глядит, как будто насквозь видит холопью мою душу и щиплет ее, щиплет траву, пратраву, которой она поросла.
— Ой, надо же, сынок, экий ты работящий, экий умелый. Тильдя у нас не такая, Тильдя уже третье поколение по счету, оторвавшееся от луга, от поля, от пеньковой кудели, да и негде ей было привыкать к серпу, веретену, прялке, к шерсти, ручным жерновам, ступке, валяльне, трепалу. Однако подле тебя она всему научится без труда.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
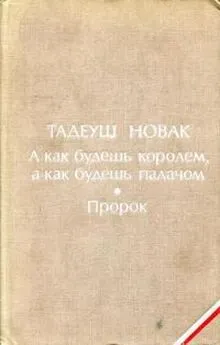



![Марина Весенняя - Дикая. Будешь моей женой! [litres]](/books/1077956/marina-vesennyaya-dikaya-budesh-moej-zhenoj-litres.webp)