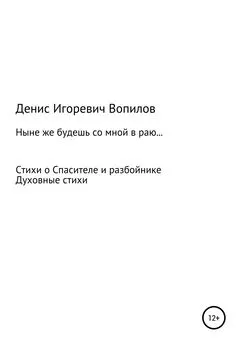Тадеуш Новак - А как будешь королем, а как будешь палачом. Пророк
- Название:А как будешь королем, а как будешь палачом. Пророк
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс
- Год:1980
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Тадеуш Новак - А как будешь королем, а как будешь палачом. Пророк краткое содержание
Во втором романе, «Пророк», рассказывается о нелегком «врастании» в городскую среду выходцев из деревни.
А как будешь королем, а как будешь палачом. Пророк - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Не раздумывая больше, я полез в окно. Влез в спальню, которую проветривали каждый раз после выпечки хлеба. Окна в ней открывали перед сном настежь даже зимой. Они выходили в сад. Поэтому летом в горнице пахло яблоками. Этот запах, как дым, сохранялся всю осень. Даже теперь, зимой, чувствовался здесь сад, в котором только что убрали урожай. Я любил эту горницу. Она была в два раза больше, чем жилая, и всегда напоминала мне уголок нашего прежнего деревянного костела с ангелом или святым, источенным жучком, или чащу волшебного леса. К запаху сада примешивался запах овечьих кожухов, пересыпанных нафталином или полынью. Из двери в чулан через покоробленные доски просачивался горький запах ссыпанного в закрома зерна, сушеных слив, придавленных камнем в дубовой бочке, и связанных в пучки трав у потолка.
Я окунулся в струящийся из чулана запах и, словно вор, пробираясь в его потоке, дошел до двери. Осторожно приоткрыл ее, ведь мне казалось, что, если я сильнее нажму на скобу, дверь разлетится в моих руках. В сени я вошел на цыпочках. Я втянул в себя воздух глубоко, как усталая собака. Запаха горячего хлеба не почувствовал, но в сенях пахло, как всегда, вареной капустой, заправленной старым салом, и медленно остывающей железной плитой. В знакомых сенях я осмелел и уже решительно нажал на скобу кухонной двери. Я не очень хорошо видел в темноте, перемешанной с отсветом вечернего неба. Но отца за столом не было. Вероятнее всего, как я и думал, он пошел с матерью к соседям. Я стал, напевая, искать кружку, чтобы выпить простокваши. И тогда еще раз взглянул на северную стену, где стояла двуспальная кровать моих стариков.
На этой кровати с дубовым изголовьем, на котором были вырезаны два дерущихся петуха, лежал мой отец. Его голова покоилась на высоких подушках, а руки были скрещены на груди. Мне казалось, что по его лицу, едва освещенному сумеречной вечерней зарей, проплывает сизый дым. Я посмотрел в окно. Ракитник был чист, словно гусиным крылом вымели из него расклеванную совами труху, клочья звериной шерсти, семена трав, снег и иней. Под ракитами, как в ночь перед рождеством, стояло зарево, занявшееся от зеленого неба, белой трухи и черного трута. Я посмотрел еще раз на кровать. Лицо отца было спокойным, белым, как гашеная известь, как глина фаянсовая, из которой даже самую малую былинку выело солнце. Я попятился на цыпочках к двери. Оттуда я вышел в сени, а из них в спальню. И так, не сводя глаз с кровати, не закрывая за собой двери, я очутился возле открытого в сад окна. И, опершись рукой о подоконник, выскочил под заснеженные деревья.
Однако я не побежал к соседям, хотя знал, что мать наверняка у них. Лошади были ближе. Я подошел к ним и стал гладить их морды. Вытащил у них удила и, отламывая от яблонь веточки, всовывал им в зубы. Я нашептывал им в уши молитвы, отрывки псалмов, перемешанные с рождественскими гимнами, и прислушивался, как переливается в лошадях вода, выпитая утром.
Не знаю, долго ли я простоял возле лошадей, но, вероятно, долго, так как на следующий день я заметил в саду, что три яблони, которые я два года назад принес из помещичьего сада, обломаны почти до верхних веток. Возле лошадей и застала меня мать. Она пришла с соседом. Мать пыталась что-то говорить, хотела, кажется, громко заплакать, но у нее не получалось. Она только всхлипывала.
Сосед, оставив нас возле лошадей, зашел в конюшню, вынес оттуда фонарь, подкрутил фитиль и, идя впереди, отвел нас в дом. Втроем мы приблизились к кровати, на которой лежал отец. Я переминался с ноги на ногу. Хотел пригладить ему сбившиеся на правом виске волосы, протянул руку. И только тогда заметил, что держу в ней ветку яблони. На кончике ветки застыла капля сока. Там, где осенью оторвалось яблоко. Я положил ветку на сложенные руки моего старика.
3
Отец был первым покойником, которого я видел. Правда, я несколько раз был на похоронах, видел умерших, которых несли через деревню в крашеных гробах, везли на выстеленных соломой повозках, но я не мог и не хотел узнавать в тех, кто лежал в сколоченных наскоро гробах, людей, с которыми я еще недавно разговаривал в лесу, которых я встречал в спелой кукурузе, что золотила их руки, лежавшие на початках, людей, с которыми я купал лошадей в вечерней реке, разбрызгивая голым телом воду, золотую от песка и пронзенную татарской стрелой. Я старался не закрывать глаз, чтобы они, мертвые, не всплывали в моей памяти, чтобы они не выходили из меня, из моих трав, зверей, деревьев и воды, где мне было дано видеть их во плоти. В течение нескольких месяцев после смерти отца я также не осмеливался закрыть глаза и вспомнить, как он сидит возле окна, ест хлеб с салом, идет в растоптанных сапогах задать лошадям овса, уходит перед утренней зарей с косой на плече косить росистую траву. Поэтому-то я, в отличие от матери, не кричал по ночам и по темным углам, не вскакивал с кровати, чтобы зажечь свечу или керосиновую лампу. Все те места в доме, коровнике, саду, поле, через которые отец проходил, о которые почесывал спину, в которые вбил гвоздь, вставил доску, никогда не напоминали мне живущего в моей памяти старика.
Чаще, чем отец, и даже тогда, когда глаза мои были открыты, являлся мне Ясек. В барашковой шапке, в кожухе, перетянутом ремнем. Я видел, как он ведет за собой вороную трехлетку, а та вскидывает все выше и выше, почти до звезд, точеную голову. И только когда, кланяясь мне до земли, приглашает он сесть на трехлетку, я замечаю, что на ней сидит мой отец в австрийском мундире, сапогах со шпорами и с саблей. Я подхожу к лошади, чтобы дотронуться до ступни отца, а он выхватывает саблю, рубит склонившегося до земли Ясека и, пришпорив вороную трехлетку, мчится галопом под весенние ракиты.
Это видение посещало меня редко. Я был доволен, что мог сдержать кружившиеся вихрем во мне и вокруг меня картины, связанные с отцом. Я словно бы замкнул его в себе, не разрешая ему войти в те места, в те вещи, которые напоминали о нем. Он мог являться передо мной только при Ясеке. И такое скупое общение с моим покойным родителем, с его жизнью, оставшейся в каждой бляхе на упряжи, в каждой заплате на сапоге, в молотке, в каждой соломинке крыши, не мешало мне заниматься хозяйством.
Люди, правда, говорили, что я, мол, недостаточно чту память покойного родителя, но, видя мои хлопоты по хозяйству, доставшемуся мне в наследство, перестали строить догадки и сплетничать. Да никто и не мог меня подозревать в сыновней бесчувственности. В моей деревне мужчины редко плакали на похоронах. Разве что кто-нибудь сильно выпьет еще до поминок или вспомнит, что в завещании его обидели. А я со своим стариком жил в согласии, да и завещания родитель оставить не успел, вот ни у кого и не было повода думать, что я не вспоминаю отца и не горюю.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
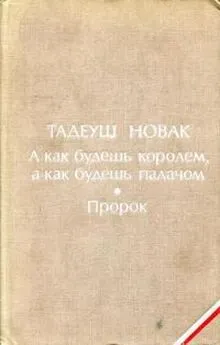



![Марина Весенняя - Дикая. Будешь моей женой! [litres]](/books/1077956/marina-vesennyaya-dikaya-budesh-moej-zhenoj-litres.webp)