Владимир Рецептер - Смерть Сенеки, или Пушкинский центр [журнальный вариант]
- Название:Смерть Сенеки, или Пушкинский центр [журнальный вариант]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Рецептер - Смерть Сенеки, или Пушкинский центр [журнальный вариант] краткое содержание
Смерть Сенеки, или Пушкинский центр [журнальный вариант] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Даря роман-идиллию «Ложится мгла на старые ступени…», Чудаков преувеличивал: «Дорогому Владимиру Рецептеру — слабое отдаренье его замечательных сочинений во всех жанрах. А. Чудаков, 16.01.2002, в день его торжества»…
«Отдарения» обоих были не слабые, а мощные — книги.
Царствие им Небесное, Андрею и Саше…
Раздвоенность, рефлексия, постоянное впадание в ступор — вот главные черты моего притихшего героя, которого и назвать-то этим словом неловко. Потому что настоящий герой выступает и действует, а мой всю жизнь в театре — замирал и леденел. Всю жизнь «леденел над пропастью поступка»…
Поясню. Эти слова — от Шадрина. Несколько раз я приезжал в Комарово в одно время с Алексеем Матвеевичем. Один из корифеев искусства перевода, он трудился с завидной дисциплиной и талантом. Стоит взять «Гептамерон» Маргариты Наваррской (с французского) или «Мельмота-скитальца» Ч. Р. Мэтьюрина (с английского).
Аристократически вежливый, с безупречной петербургской манерой речи, худой и лёгкий на ногу, Шадрин в промежутке между занятиями каждый день совершал длительные прогулки. То до Репино дойдёт, а то и до Зеленогорска, и при солнце, и по осеннему дождю, и в снег. Одевался он в любую погоду легко, а шагал быстро. Так же лёгок на ногу был, пожалуй, один Смоктуновский. За Шадриным было не угнаться, но несколько бесед не на ходу, а на стоянках, или на скамье, запомнились: театр, Шекспир, литература, Ахматова...
Вместе с Иваном Алексеевичем Лихачёвым и Александром Александровичем Энгельке Шадрин преподавал в военно-морском училище, оттуда их и «замели» по неучитываемой и неуточнённой мною статье. Они отсидели по полной, а, выйдя из лагерей, составили интеллектуальный цвет ленинградской секции переводчиков...
Над «Мельмотом-скитальцем», вышедшим в серии «Литературные памятники», Алексей Матвеевич работал с академиком М.П. Алексеевым и однажды, войдя в его домашний кабинет-библиотеку, где бывал и автор этих строк, упал в обморок. Михаил Павлович Алексеев смертельно боялся сквозняков, закрывая все щели и форточки, а Алексей Матвеевич Шадрин был любителем свежего воздуха. Так вот, однажды Шадрин прочёл мне свой перевод монолога «Быть или не быть», и бывший принц Датский, впрочем, почему бывший, в те годы я ещё играл моноспектакль «Гамлет», был поражён новизной близкого и неузнаваемого текста. «Оледенев над пропастью поступка…» «Быть или не быть» Шадрин перевёл по памяти именно там, в ГУЛАГе…
Из писателей-«сидельцев» мы приятельствовали с Камилем Икрамовым, сыном расстрелянного «врага народа» Акмаля Икрамова, главы Компартии Узбекистана, о котором в конце жизни Камил написал свою лучшую повесть; мы переписывались с Юрием Домбровским...
В Перми я сдружился с Николаем Домовитовым, который, кроме своих книг, однажды подарил составленный им сборник стихов «Зона». «Дорогая, стоят эшелоны, / Скоро, скоро простимся с тобой. / Пулемёты поднял на вагоны / Вологодский свирепый конвой...» Такое не придумаешь. Стало быть, именно вологодский конвой на Колиной шкуре вымещал свою свирепость. Эти его стихи от Баку до Колымы пели российские зэки, а на книге он так и написал: «Другу моему, Владимиру Рецептеру на добрую память от з/к № 2458. 15.XI.1990 г. г. Пермь...»
«...Как я дожил до прозы / с горькою головой? / Вечером на допросы / водит меня конвой...» (Б. Чичибабин). «Нас даже дети не жалели, / Нас даже жены не хотели, / Лишь часовой нас бил умело, / Взяв номер точкою прицела...» (Ю. Домбровский).
Однажды я имел честь пожать руку Варламу Шаламову. Он пришёл в отдел поэзии журнала «Юность», поздоровался и, найдя место в уголке, опустился на стул. Худущий и будто поломанный в спине, Шаламов страшно подёргивался от непрерывного тика. Вижу: возникновение в дверях, вход, здравствование, усаживанье, речь... Шаламов — великомученик, трагический нежилец, стоик — заполнил собою всю комнату, будто никого не осталось, хотя все были здесь…
В заветном ящике стола хранился и хранится экземпляр «Requiem’a», подаренный мне Анной Андреевной Ахматовой, который я время от времени достаю и перечитываю с любовью...
«Перед этим горем гнутся горы, / Не течёт великая река, / Но крепки тюремные затворы, / А за ними “каторжные норы” / И смертельная тоска»…
Как же я мог, как смел бояться чего-то после этого рукопожатия и такого подарка?.. Почему медлил выйти из Гогиной ложи?..
Часть вторая
Пусть будет нашей высшей целью одно, — говорить, как чувствуем, и жить, как говорим...
Сенека
8.
Шла неизвестно какая нескончаемая минута, с момента, когда наш Рыжий (домашнее прозвище Радзинского в БДТ) начал честить бедного Гогу, а я маялся у незапертой двери, рыча на одного себя и не решаясь на свободный выход. Пытка «Иваном» не шла ни в какое сравнение с новым сроком самовольной отсидки и каторгой бездарного ожидания. В любую минуту могла подойти капельдинер бельэтажа, пожилая женщина, впустившая нас с Эдиком в Гогину ложу. Она же могла запереть дверь снаружи до начала вечернего спектакля…
Обрести внезапную ясность и принять решение после мучительных размышлений помог мне Родион Раскольников, которого ещё студентом я сыграл в Ташкентском театре: «Тварь ли я дрожащая или право имею?..»
Твёрдой рукой отодвинув портьеру и открыв дверь, я вышел к Гоге и Эдику как ни в чём не бывало...
Господи, Господи, какая это была глупость!..
Последняя, предельная, несусветная!..
Ничего хуже придумать было нельзя, и выход получился ещё более провальный, чем провалившийся только что спектакль «Иван»!..
Нет, артист Р. не примкнул к высокой беседе, но с достоинством кивнул своему Мэтру, — с Радзинским-то уже виделись, — и плавной сценической походкой — ноги с пятки на носок, голова по одной линии, не ныряя, — пошёл себе и пошёл, и, завернув на лестницу, удалился восвояси.
Моё появление произвело эффект: Эдик притормозил обвинительную речь, а Гога с поднятыми бровями и зрачками, выросшими до размеров очочного стекла, проводил меня орлиным взором. И дорого заплатил бы я, чтобы представить себе и читателю, что подумал в тот миг Товстоногов. Но некому платить. И спрашивать теперь тоже н у кого…
Связаны, связаны оба эти эпизода. И то, как я прошёл мимо Гоги, и последний разговор в его кабинете. Хотя почему последний? Последний из тех, когда я считался его артистом. Был или считался? Вопросов у меня много, а ответов недостаёт. Но эпизоды связаны. Если я их связал, то Гога — тем более…
Мы помним, что вместо писем Гранина и Лаврова на высочайшее имя пошли письма Толубеева и Скатова. И никакой возможности следить их таинственный ход не было. Никакое предвидение было невозможно, вести налетали сами, как ветры и ястребы. И это было к лучшему, Пушкинский центр продолжал работать, а дневник пытался наладить связи с судьбой…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Владимир Рецептер - Смерть Сенеки, или Пушкинский центр [журнальный вариант]](/images/nocover.webp)
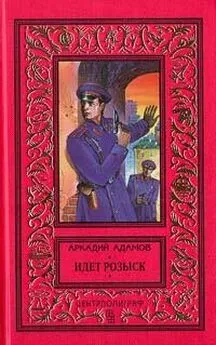
![Владимир Рафеенко - Московский дивертисмент [журнальный вариант]](/books/430464/vladimir-rafeenko-moskovskij-divertisment-zhurnal.webp)

![Владимир Фирсов - Срубить крест[журнальный вариант]](/books/445480/vladimir-firsov-srubit-krest-zhurnalnyj-variant.webp)

![Валерий Попов - Ты забыла свое крыло [журнальный вариант]](/books/1082416/valerij-popov-ty-zabyla-svoe-krylo-zhurnalnyj-var.webp)
![Владимир Санин - Приключения Лана и Поуна. Повесть [журнальный вариант]](/books/1098915/vladimir-sanin-priklyucheniya-lana-i-pouna-povest.webp)
![Владимир Митыпов - Мамонтенок Фуф [журнальный вариант]](/books/1099794/vladimir-mitypov-mamontenok-fuf-zhurnalnyj-varian.webp)
