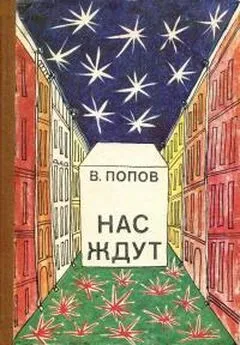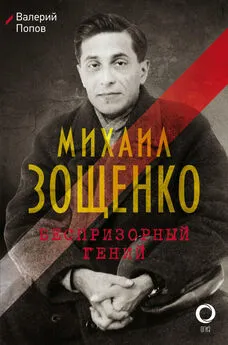Валерий Попов - Что посеешь...
- Название:Что посеешь...
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ленинградское отделение издательства «Детская литература»
- Год:1986
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Попов - Что посеешь... краткое содержание
П 58
Для младшего школьного возраста
Попов В. Г.
Что посеешь...: Повесть / Вступит. ст. Г. Антоновой;
Рис. А. Андреева. — Л.: Дет. лит., 1985. — 141 с., ил.
Сколько загадок хранит в себе древняя наука о хлебопашестве! Этой чрезвычайно интересной теме посвящена новая повесть В. Попова. О научных открытиях, о яркой, незаурядной судьбе учёного — героя повести рассказывает книга.
© Издательство «Детская литература», 1986 г.
Что посеешь... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Под утро прибегает наш курьер, в окно мне стучит: «К Косушкину!»
Прихожу в кабинет. Там сидят несколько сотрудников нашей станции и несколько незнакомых, — видимо, специально из Казани приехали.
«Вот, — Косушкин говорит. — Комиссия, будет посев твой проверять. Ну, я думаю, можно уже и приступать: солнышко встало!»
Поместились мы все в бричку его, и он в поле нас отвёз и уехал. Среди комиссии этой многие знакомые были, даже друзья, — но тут молчали все, слова никто не произнёс: такое дело!
Во главе комиссии был Кучумов — я до этого несколько раз его в Казани встречал: раньше он в Москве, в Сельскохозяйственной академии, работал, потом в армии служил, потом в Казань его направили, в республиканское министерство сельского хозяйства. Мрачный такой, молчаливый. Но на счастье, оказался честный и справедливый. На коленях всё поле прополз, чуть не в каждой лунке зёрна сосчитал. Потом взял свою командирскую сумку-планшет, достал лист бумаги, чернильницу-непроливайку, ручку и написал: «Высев зерна соответствует норме!» И больше мы с Косушкиным к этому вопросу не возвращались. А с Кучумовым мы друзьями стали, хороший оказался человек — суровый, но честный, — жаль, вскоре после войны умер от инфаркта.
Стали подниматься мои посевы: ровные, обильные и, главное, чистые, без сорняков! На соседних полях сорняки всё глушат, а у меня — редко-редко когда появится сорняк! Ну, тут уже стали все поздравлять меня, чуть ли не героем я сделался — слава богу, никто не знал, как у героя этого поджилки весной тряслись. Стало просо поспевать. «Должен, — думаю, — хороший быть урожай — не зря я семена только из самых пышных метёлок отбирал!» И вот вызрели метёлки, собрал я урожай — никогда ещё за историю прососеяния такого урожая не собирали! И что самое радостное для меня — образовался вполне устойчивый сорт, что по зёрнам видно: второй год уже цвет и форма зерна остаются неизменными, — значит, удалось выделить сорт с устойчивыми признаками!
На следующий год уже заявил это как сорт проса — пока что без названия, — высеял на многих уже полях, в разных колхозах и на разных почвах, и ждать стал: сохранит ли он в столь различных условиях свою устойчивость?
Всё лето волновался о них, думал: «Надо бы ещё удобрить посевы, чтобы полностью выяснить, на что новый сорт мой способен». С удобрениями тогда очень туго было, не то что сейчас, в каждом хозяйстве придумывали, что могли. А от Косушкина мне нечего было ждать: он все ещё продолжал подозрительно ко мне относиться. «Где же, — всё думал я, — удобрений достать?» И тут выручил один мой друг на станции, Пётр Зубков. Он в Казани сам вырос, всё знал.
«Слушай, — говорит, — что я тебе скажу. Я в жизни моей много по чердакам лазил и с детства ещё запомнил: на чердаках старинных зданий в казанском кремле метровые наросты голубиного помёта, голуби там триста лет уже селятся, с тех пор как здания эти выстроены».
Выпросили мы лошадь с телегой у Косушкина, поехали в Казань. Пришли — с мешками прямо — к председателю Казанского исполкома Аксёнову. Объяснили деликатно ему, в чём дело, — а исполком тогда как раз в этих старинных зданиях казанского кремля размещался.
«Ясно, — Аксёнов говорит, — проблему вашу понял! Только одно условие: мешки эти ваши с помётом по лестницам не таскайте, посетителей исполкома не пугайте. Сообразите что-нибудь. Лучше всего, наверное, мешки эти на верёвках с чердака прямо спускать, с задней стороны здания. Верёвки можете у коменданта взять — скажите, я велел».
Так мы и сделали, взяли у коменданта верёвки, он открыл нам чердак. Только вошли туда — тысячи, наверное, голубей там взлетели — ф-фыр-р-р! Ну, удобрили они нас, конечно, с ног до головы. Но это не беда. Стали мы ломом скалывать залежи голубиного помёта, в мешки нагружать и на верёвке вниз, на телегу прямо спускать. Может, кому постороннему не очень приятной работа такая показалась, но я, честно скажу, с наслаждением делал её, потому что представлял, какие посевы взойдут: отличное это удобрение — птичий помёт!
Несколько таких рейсов мы сделали. Удобрили мои поля и Зубкова — он на станции ячменём занимался.
И получился в этом году замечательный урожай проса — больше даже, чем в прошлом году. И ясно уже, что устойчивый это сорт: год за годом выглядит одинаково и даёт одинаково стабильные урожаи. Утвердила комиссия мой сорт как государственный стандарт и порекомендовала его сеять по всей территории страны. Это первый мой был сорт проса. Назвал я его «казанское сто семьдесят шесть». И почти параллельно с ним, чуть позже, выделил ещё один сорт проса, ещё более урожайный — «казанское четыреста тридцать». Номера эти — номера делянок, на которых оказались высеяны при разделении по цветам эти семена, оказавшиеся наиболее перспективными.
— Так много делянок у тебя было — четыреста тридцать? — удивился я.
— Почему четыреста тридцать? — удивился дед. — Значительно больше! Несколько тысяч! Я же рассказывал тебе: безграничное разнообразие семян до меня было в посевах проса — и все я их выделил, и каждый тип отдельно посеял!
— Несколько тысяч?
— Да, тысячи примерно три делянок было. И каждую надо обойти, тщательно изучить, потом обмолотить — строго отдельно. Так что работа селекционера... ничем не легче, скажем, работы геолога: ходить и смотреть ничуть не меньше приходится, и каждый день! Зато как порадовали они меня, мои сто семьдесят шестой и четыреста тридцатый! Помню, во время войны уже, в голодные годы, приехал я на Лаишевское опытное поле — и директор тамошнего совхоза замечательной, пышной и румяной, пшённой кашей меня угостил.
«Это, — говорит, — ваш четыреста тридцатый! Спасибо вам огромное — очень урожайный сорт!»
Вообще, так получилось, что размножение урожайных моих сортов как раз на трудное военное время пришлось — и большую прибавку продовольствия дали мои сорта. К тысяча девятьсот сорок пятому году занимали они примерно двести тысяч гектаров, и каждый сорт давал около двадцати центнеров с гектара — примерно на десять центнеров больше, чем раньше собирали. Помножь десять центнеров на двести тысяч гектаров — получаем примерно два миллиона центнеров проса в год чистой добавки! И всё это из-за того, что я в своё время заметил, что слишком пёстрые всходы на одном и том же поле просо даёт!
Ну, ясно, такая прибавка незамеченной не могла пройти: дали мне в сорок шестом году премию — пятнадцать, кажется, тысяч рублей.
Но это уже потом было — пожинание лавров, — а тут ещё тридцать девятый год был, война далеко была, когда у меня сорта утвердили, и ещё одна радость произошла: родился у меня сын Валера, твой будущий отец.
Помню, когда его домой в первый раз принесли, на стол его положили, и так он несколько дней на столе спал: кроватку тогда трудно было найти. Да, кстати, — оживился дед, — это тот самый стол, который сейчас у вас на кухне стоит! На нём твой отец лежал, когда ему неделя от роду была!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
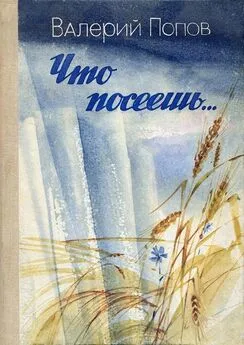

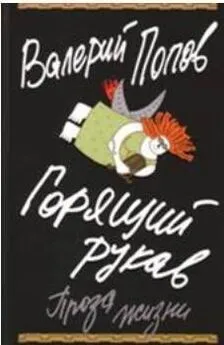
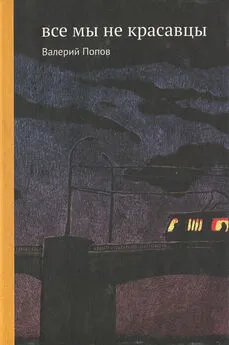
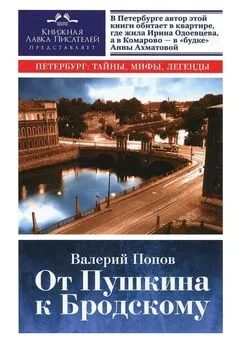
![Валерий Попов - Ты забыла свое крыло [журнальный вариант]](/books/1082416/valerij-popov-ty-zabyla-svoe-krylo-zhurnalnyj-var.webp)
![Валерий Попов - Все мы не красавцы [Повесть и рассказы]](/books/1082419/valerij-popov-vse-my-ne-krasavcy-povest-i-rasska.webp)
![Валерий Попов - Любовь тигра [Повести и рассказы]](/books/1082431/valerij-popov-lyubov-tigra-povesti-i-rasskazy.webp)