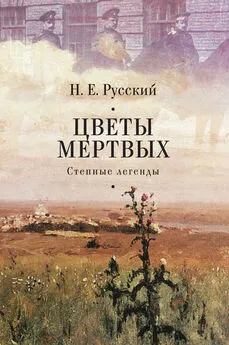Михаил Талалай - Цветы мертвых. Степные легенды [сборник litres]
- Название:Цветы мертвых. Степные легенды [сборник litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алетейя
- Год:2018
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-907030-47-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Талалай - Цветы мертвых. Степные легенды [сборник litres] краткое содержание
Цветы мертвых. Степные легенды [сборник litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Прибавка» обернулась «чисткой».
До «прибавки» шкрабы все получали одинаковую зарплату. Теперь была установлена градация: 100 проц. – учителям с высшим образованием; 100 проц.-10 проц. – не имеющим такового. А так как большинство имевших высшее или специальное учительское образование было вычищено, то партия и правительство выиграли.
На места «вычищенных» нужно было кого-то поставить. И вот тогда началось так называемое «выдвижение».
Уцелевших от чистки стали «выдвигать» в техникумы и даже в высшие учебные заведения, где не хватало профессоров. Из сельских школ стали «выдвигать» в городские.
Персонал сельских школ оказался разгромленным.
Туда «выдвигали» жен и родственников председателей колхозов и совхозов, комсомолок, кандидатов партии и т. д. И вот несчастные инспектора районных школ, среди которых оставили ряд старых учителей, вынуждены были выслушивать на уроках, которые они посещали, вещи… до сих пор им неизвестные:
– Земля вращается вокруг своей оси с востока на запад.
– Река Миссисипи имеет название от Мисс Сисипп.
– Нужно писать: «Бисарабия».
– Эмигрант это тот, кто выехал, а иммигрант это тот, кто убежал из страны без разрешения.
Появилось ранее не существовавшее «Московское море». И т. п., и т. д.
Державшаяся кое-как школа покатилась вниз, и к 1938 году уровень знаний окончивших средние и низшие школы опустился в такой мере, что высшие учебные заведения закричали караул.
«Прибавка» же зарплаты, разрекламированная по всей стране, способствовала повышению цен на доживавших свой век базарах.
И были случаи, когда родители учащихся приходили в школы и требовали, чтобы учителя покупали их детям тетради и учебники – «так как, мол, учителя хорошо зарабатывают, а учить не умеют»…
«Русская мысль», Париж, 8 июля 1949, № 152, с. 3.
На колесах
Путевые впечатления невольного путешественника
Начальник местного ГПУ вручает мне удостоверение на право «свободного» проживания по всему СССР. Каторга и ссылка окончены благодаря железному здоровью и тому, что в те времена условия существования в концлагерях были иные, чем впоследствии.
– Так я могу проживать везде свободно? – задал я на радостях наивный вопрос.
– Ну, конечно же, – ответил любезно начальник ГПУ. – Вы свободный гражданин свободной страны. В Исполкоме получите удостоверение на право участвовать в выборах. Вы более не лишенец. Всего лучшего.
Поезд меня мчит по сибирским просторам: лесным, лесостепным и степным, потом снова лесным и, наконец, по уральскому горному плато.
Вот и Свердловск, Екатеринбург. Город, носящий имя убийцы царской семьи. Свердловск вошел в русскую историю как место великого и незаконного злодеяния. Делаю остановку, чтоб побывать и мысленно поклониться памяти последнего нашего императора и его семьи. Быть может, души мученически убиенных еще витают в подвале дома Ипатьева, и тогда смогу почувствовать, прикоснуться к их трагедии, чтоб ощутить общее наше российское горе.
Никто не виноват в гибели императорской семьи, кроме нас самих.
Невольно вспоминаются слова бывшего со мной в каторге крестьянина:
– Да разве мы свергли царя? Его свергли вы, интеллигенция. Вы и революцию сделали. А мы ее только закончили.
В полутемных подвалах Ипатьевского дома какой-то развязный субъект в стоптанных валенках весело рассказывает о последних минутах страдальцев и показывает на следы в стенах от пуль и на грязные деревянные заплаты в деревянном полу подвала. Окончив пропагандную «лекцию», просит папироску или табачку на закурку…
Наконец, я в Ленинграде. Я – имеющий право проживания по всему СССР. Через 24 часа получаю повестку оставить город, близко стоящий у границы.
Еду в Москву. Пробую обосноваться там. Через 24 часа та же музыка, под которую вылетаю вон из столицы.
Куда же ехать?
В Киев? Но это тоже русская древняя столица, да еще мать всех русских городов. В Одессу? Там тоже граница. Черт возьми, как тесно стало на Руси. Беру билет в Среднюю Азию. Но так как и Алма-Ата и Фергана тоже близко от границ, останавливаю свой выбор на ст. Урсатьевской (Куропаткино). Это узел на Ташкент и на Алтай. Надеюсь в поезде узнать кое-что и сориентироваться. До Казани еду сравнительно хорошо, если не считать словесной схватки с одним слишком лояльно настроенным врачом, щелкавшим всю дорогу тыквенные семечки. На мое счастье купе, набитое до отказа русскими, татарами, башкирами и т. д., было на моей стороне и потому подозрительные попытки врача выйти из купе на остановках молчаливо тормозились, несмотря на соблазнительное желание каждого занять его «сидячее место». В Самаре врач все-таки вырвался. Но поезд был немедленно атакован пассажирами, среди коих, по совету других, я и затерялся.
На ст. Самара столпотворение. Тысячи пассажиров валяются на перроне в ожидании получения билетов. Оказывается, что моя поездка совпала с мудрым приказом мудрейшего о назначении своего шурина Л. М. Кагановича на должность комиссара путей сообщения СССР и вместе с тем для упорядочения транспорта. К тому времени двадцать лет нечиненные дороги и подвижной состав настолько выбыли из строя, что дальнейшее их функционирование подвергалось большой опасности.
Второе это то, что это был год великого переселения народов по стране. Ему предшествовал год великого разрушения. Испытав голод, лишения и различные страхи, население бросилось со своих мест, куда попало, чтоб затеряться в российских просторах. Главным образом это было крестьянство, то есть русский народ, испытавший к тому времени все прелести советской власти. Большинство бросилось в Среднюю Азию. Там пески, горы, оазисы. Да и слава «о Ташкенте, городе хлебном», еще не умолкла. Кроме того, в годы великого разрушения на окраинах жилось много лучше. Туда, или еще не потянулась когтистая рука власти и голода, или там проводилась определенно демагогическая политика.
Грузия, Армения, Азербайджан, Китай, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и иные восточные области СССР. Но особенно привлекали беженцев Закавказье и Узбекистан. Про Закавказье даже ходил такой анекдот: жители Грузии, якобы возмущенные беженцами из Украины, Дона, Кубани и Терека, за неимением мест отправлявшими все свои надобности прямо на улицах Тифлиса, обратились к своему сородичу Енукидзе с письмом, в котором жаловались, что русские загадили всю Грузию.
«Тут нет ничего удивительного, – ответил им тот. – «Гораздо хуже то, что один грузин загадил всю Россию». Может быть этот анекдот и стоил головы Енукидзе.
Итак, на ст. Самара столпотворение. Билеты дают только на сто километров. Через 100 км. выходи и жди следующего поезда, на который попадешь ли еще – неизвестно. Мешочники, ездившие в хлебные места за хлебом, уже съели его в дороге. Прибывающие толпы из раскулаченных деревень уже голодают. На ж.-д. станциях невообразимый беспорядок. Приказ явился неожиданностью. Да его и не публиковали. Народ сталкивался с ним в пути, когда возврата уже не было. Начались болезни. Не хватало питьевой воды. Люди спят в грязи на перронах, в пристанционных садиках, служащих им и местом еды и уборными. Грязь там и вонь невыносимая Люди, почти обезумевшие от 100-верстных остановок, кидаются на вагоны с яростью атакующих и, сбивая друг друга с ног, топча, лезут в окна вагонов, на крыши со стоверстными билетами в зубах. Но немедленно получают из вагонов не менее яростный отпор от «защитников», засевших там с билетами в карманах тоже на сто километров. После 100 км и они будут штурмовать вокзалы и станции, давить других, терять вещи, детей, друг друга и, в конце концов, останутся на какой-нибудь станции, безнадежными взглядами провожая ушедший поезд. У билетных касс драки и воровство. Носильщики небывало наживаются, беря за покупку билета больше стоимости самого билета.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Михаил Талалай - Цветы мертвых. Степные легенды [сборник litres]](/books/1085562/mihail-talalaj-cvety-mertvyh-stepnye-legendy-sbo.webp)

![Нил Гейман - Мифическое путешествие: Мифы и легенды на новый лад [сборник litres]](/books/1064578/nil-gejman-mificheskoe-puteshestvie-mify-i-legendy.webp)
![Михаил Юхма - Цветы Эльби [Рассказы, сказки, легенды]](/books/1069993/mihail-yuhma-cvety-elbi-rasskazy-skazki-legendy.webp)
![Глен Кук - Хроники Черного Отряда: Книги Мертвых [сборник litres]](/books/1071987/glen-kuk-hroniki-chernogo-otryada-knigi-mertvyh-sb.webp)
![Михаил Щукин - Морок [сборник litres]](/books/1078301/mihail-chukin-morok-sbornik-litres.webp)

![Александр Бушков - Степной ужас [сборник litres]](/books/1142744/aleksandr-bushkov-stepnoj-uzhas-sbornik-litres.webp)

![Генри Каттнер - Смех мертвых [сборник litres]](/books/1147764/genri-kattner-smeh-mertvyh-sbornik-litres.webp)