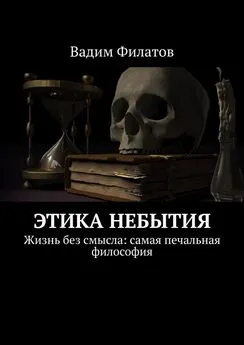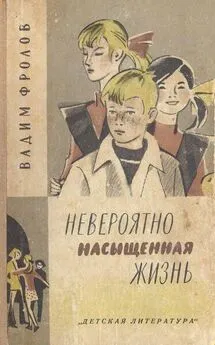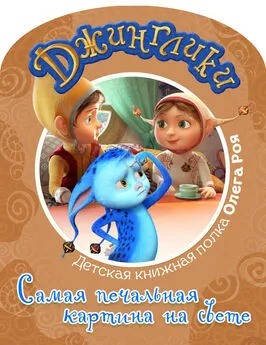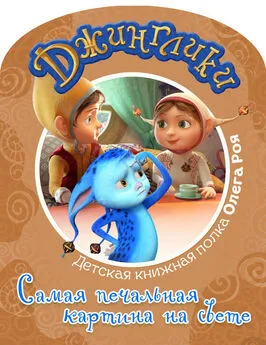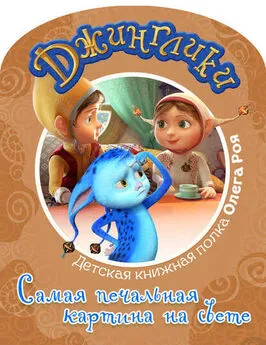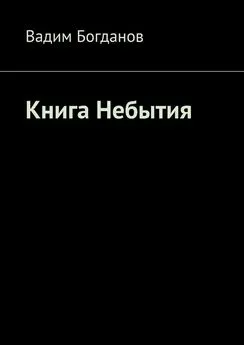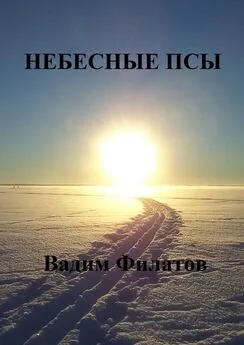Вадим Филатов - Этика небытия. Жизнь без смысла: самая печальная философия
- Название:Этика небытия. Жизнь без смысла: самая печальная философия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449613813
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Филатов - Этика небытия. Жизнь без смысла: самая печальная философия краткое содержание
Этика небытия. Жизнь без смысла: самая печальная философия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Как костер в мерцании начинающегося утра, так и Ваша философия растворилась в учении Шопенгауэра, который впервые научно исследовал бессознательное. Поэтому Вашу философию путали со светом восходящего солнца. Но сейчас рассвело, и ошибка стала ясна.
Философия, которая раньше освещала темную ночь человечества как высоко-горящий огонь – индийский и античный пантеизм – превратилась теперь в догорающий уголь: никакого света больше.
Прощайте!» [71]
Наиболее известным продолжателем Шопенгауэра стал упоминавшийся выше Эдуард фон Гартман. Центральное место в его системе занимает проблема бессознательного, под которой Гартман понимает «представляющую волю» Шопенгауэра. Смысл мирового процесса имеет лишь условное и отрицательное значение и состоит в постепенном приготовлении к уничтожению того, что создано первичным неразумным актом воли. Разумная идея, отрицательно относящаяся к действительному бытию мира как к продукту бессмысленной воли, не может, однако, прямо и сразу, упразднить его, будучи по существу своему бессильной и пассивной: поэтому она достигает своей цели косвенным путём. Управляя в мировом процессе слепыми силами воли, она создаёт условия для появления органических существ, обладающих сознанием. Через образование сознания мировая идея или мировой разум освобождается от владычества слепой воли, и всему существующему даётся возможность сознательным отрицанием жизненного хотения возвратиться опять в состояние чистой потенции, или небытия, что и составляет последнюю цель мирового процесса. Но, прежде чем достигнуть этой высшей цели, мировое сознание, сосредоточенное в человечестве и непрерывно в нём прогрессирующее, должно пройти через три стадии иллюзии. На первой человечество воображает, что блаженство достижимо для личности в условиях земного природного бытия; на второй оно ищет блаженства (также личного) в предполагаемой загробной жизни; на третьей, отказавшись от идеи личного блаженства как высшей цели, оно стремится к общему коллективному благосостоянию путём научного и социально-политического прогресса. Последовательному разоблачению несостоятельности указанных иллюзий посвящается 11 глава второго тома сочинения Гартмана «Философия бессознательного», которая называется «Безумие желаний и бедствия бытия». (Интересно, что, дойдя до раздела о религии, дореволюционный русский переводчик внезапно пояснил, что дальше переводить не может из соображений цензуры и перешел сразу к прогрессу).
«После трех стадий иллюзии человечество, наконец, увидело безумие своих стремлений и, отказавшись от положительного счастия, порывается только к абсолютной безболезненности, к Нирване, к ничто». [12, с. 361] Разочаровавшись в экзистенциальных иллюзиях, наиболее сознательная часть человечества, сосредоточив в себе наибольшую сумму мировой воли, примет решение покончить с собой, а через это уничтожить и весь мир. Усовершенствованные способы сообщения, считает Гартман, доставят просвещённому человечеству возможность мгновенно принять и исполнить это самоубийственное решение. Ещё один вариант коллективного ухода в небытие всего человечества это массовый и осознанный отказ от размножения, что, отчасти мы сейчас и наблюдаем в наиболее экономически развитых государствах Запада.
Для этого необходимо «…чтобы человечество вполне прониклось сознанием безумия воли и бедственности бытия и исполнилось такою неутолимою жаждой покоя и безболезненности небытия, что стремление к уничтожению воли и бытия, как практический мотив, достигло бы неодолимой силы. Можно с очень большой вероятностью ожидать выполнения этого условия в старческом возрасте человечества, ибо, когда ясна будет истина познания о бедственности бытия, то это познание мало по малу преодолеет противодействующее воззрение, слагающееся под влиянием чувства и инстинкта». [12, с. 376]
В конце своей книги Гартман начинает изъясняться туманно, намекая на то, что человечество, массово отказавшись от размножения, уничтожит не только себя, но и вселенную. Это, конечно, было бы неплохо, но, к сожалению, эти его конструкции, как и соответствующие места у Шопенгауэра, представляются излишне умозрительными. Впрочем, вполне достаточно, если перестанет страдать от бытия человечество.
У Гартмана мы вновь видим попытку философского осмысления самоубийства. При этом философ переводит вопрос на качественно новый уровень, рассуждая о коллективном суициде всего человечества. Ещё один, также присутствующий у Гартмана и прямо вытекающий из философии небытия, вопрос о нравственном содержании деторождения и отказа от размножения получил своё развитие только в двадцатом столетии.
1.3. Высший дар – нерождённым быть
«Все созданное несёт в себе смерть. Трудитесь же не покладая рук над спасением несозданных», – учил Будда.
Антинатализм – общее название для принципиально различных: 1) философско-этической позиции, 2) экологического подхода и 3) демографических мер, лишь внешне схожих в негативной оценке воспроизведения потомства. При этом термин используется чаще всего в философско-этическом значении. Философско-этический антинатализм разделялся и разделяется некоторыми известными мыслителями, в том числе Артуром Шопенгауэром, Эдуардом фон Гартманом, Петером Весселем Цапффе, Дэвидом Бенатаром, Ричардом Столлманом, Томасом Лиготти.
Сторонники этического антинатализма апеллируют к моральной стороне вопроса. Тот же Шопенгауэр утверждал, что ценность жизни, в конечном счете, отрицательна, потому что любые положительные переживания всегда будут перевешены страданием, так как оно является более сильным переживанием. Весьма скептически философ относился к стремлению культуры романтизировать размножение под видом «любви». Цитируем его «Метафизику половой любви»:
«Всякая влюбленность, каким бы эфирным созданием она ни представала, коренится всецело в половом влечении, да и сама она есть лишь точнее определенное половое влечение, специфицированное, индивидуализированное (в самом точном смысле этого слова). И если, памятуя об этом, взглянуть теперь на важность той роли, которую играет половая любовь, во всех ее оттенках и нюансах, не только в романах, но и в действительной жизни, где она является могущественнейшим и активнейшим из всех мотивов, кроме разве любви к жизни, – где она владеет половиной сил и помыслов младшего поколения человечества, составляет конечную цель почти всякого человеческого устремления, оказывает в конце концов отрицательное влияние на важнейшие дела, всякий час прерывает серьезнейшие наши занятия, смущает временами даже величайшие умы, осмеливается вмешиваться со своими пустяками в переговоры государственных мужей и поиски ученых, умело подбрасывает свои любовные посланьица, свои заветные локончики даже в министерские портфели и философские манускрипты, что ни день, затевает самые путаные, самые скверные интриги, требует себе в жертву иногда жизнь или здоровье, а подчас, богатство, положение и счастье человека, – да что там, делает честного во всем другом человека бессовестным, верного – предателем, – и значит, в целом предстает неким злокозненным демоном, стремящимся все исказить, запутать и низвергнуть, – это ли не повод воскликнуть: из чего шум? Для чего мольбы и неистовства, страхи и бедствия? Речь ведь идет лишь о том, чтобы каждый петушок нашел свою курочку: чего же ради такая мелочь должна играть столь важную роль и беспрерывно нарушать и путать жизнь человека?» [64, 2, с. 445—446]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: