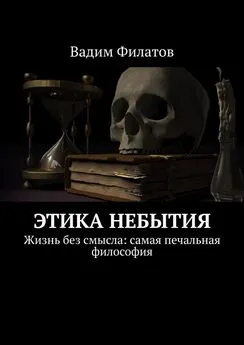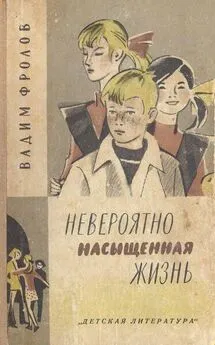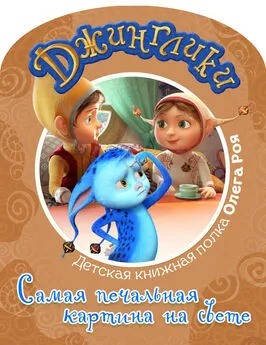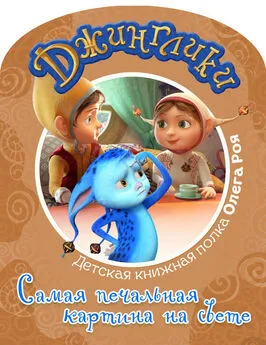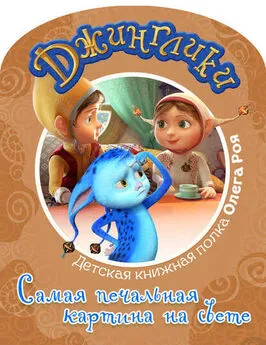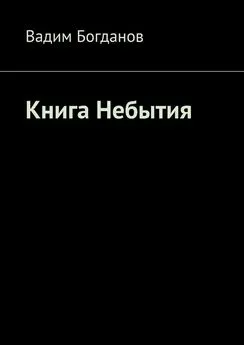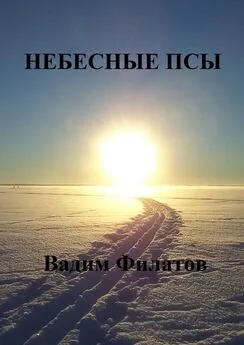Вадим Филатов - Этика небытия. Жизнь без смысла: самая печальная философия
- Название:Этика небытия. Жизнь без смысла: самая печальная философия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449613813
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Филатов - Этика небытия. Жизнь без смысла: самая печальная философия краткое содержание
Этика небытия. Жизнь без смысла: самая печальная философия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Согласно адвайте, всё есть сознание. Оно же именуется «Я», или «высшее Я». Это основа проявленного мира, его сокровенный исток, глубочайшая сердцевина. Пападжи называет его пустотой, ничто, и в то же время – полнотой, бытием. На первый взгляд это кажется противоречием, но в контекст философии небытия такая идея вписывается: если мы говорим, что в абсолютном смысле ничего не существует, тогда можно сказать, что подлинно существует небытие, пустота, ничто. В этом смысле ничто – это бытие и полнота. Оно является нашей истинной природой. Адвайта учит, что невозможно увидеть его как какой-то объект, оно – и не объект, и не субъект, оно – то, что есть мы сами и всё вокруг. Ум, направленный вовне, на объекты, не способен приблизиться к своей собственной природе, к пустоте – такой ум захвачен иллюзией (Майей), а ум, обращённый к своему источнику, становится един с ним. Не случайно основной формой поучений Рамана Махарши было молчание, тишина. Нам, большую часть времени погружённым в разнообразные содержания и отождествляющимся со своими мыслями, стоит на мгновение остановиться и прислушаться к тому, что содержится в этом промежутке, к тому, что скрыто за мыслями. Там нет ничего, но именно в этом «нет ничего» и кроется разгадка. Это «нет ничего» бесконечно больше чем всё, вместе взятое! Всё из ничто и в нём.
Адвайта, при большом внешнем сходстве с философией небытия, в одном важном пункте расходится с ней. Если для индуса этот мир и его собственная жизнь – это проявление божества, абсолюта, атмана, пустоты, то для философа небытия это никакое не проявление, а некий непостижимый сбой, флуктуация, искажение, извращение, болезнь пустоты. У Рамана Махарши всё размывается в «я», стираются любые границы. Он говорит о «сат-чит-ананде» (реальности-сознании-блаженстве), присущей нашей изначальной природе. Но философ небытия видит границы и не видит «реальности-сознания-блаженства» по той причине, что в небытии не может их быть по определению, а в бытии они невозможны именно в силу того, что это бытие.
Само понятие «адвайта» («недвойственность») предполагает, что нечто все-таки есть: это Брахман, который проявляет себя через наше «я». Брахман реален, мир нереален, джива (индивидуальная душа) и Брахман – одно и то же. Действительно, Брахман адвайты очень напоминает шунью (пустоту) буддизма мадхьямики, в которой подлинной реальностью признается пустота, и о которой, как и о Брахмане, нельзя сказать ничего. То, что есть страдающие существа – тоже иллюзия: на высшей точке зрения все уже спасены, все находятся в пустоте (хоть и не все об этом знают), так же, как в адвайта-веданте все уже тождественны Брахману, нет ничего, кроме него. К тому же Брахман в адвайта-веданте – это мировое «я», в то время как шунья в некоторых вариантах буддизма есть союз ясности (сознания) и пустоты. Но такое наивное представление вызывает серьёзные сомнения. И вообще, встречающаяся у ряда современных учителей адвайты, частичная (с оговорками) реабилитация концепции «я» сильно напоминает еще одну скрытую форму реабилитации иллюзии бытия.
Мир плох. Пока страдает хотя бы один человек, любой оптимизм становится глумлением над его страданиями. Лучше ничему не быть изначально, но бытие, хоть и условно, но есть, и есть мы. Смерть – это возвращение домой, это «вправление вывиха» пустоты, исцеление от боли жизни. А всё остальное (наверно, включая адвайту, при всей её привлекательности) – это более или менее неудачные попытки примириться с существованием, сделать бытие хоть в какой-то степени сносным. Возникают различные идеи, которые претендуют на роль недостающего звена между «ничто» и «нечто». Например, воля Шопенгауэра. Или Бог – неважно, как Он описывается. Или сознание. Тогда получается, что есть нечто большее, чем ничто, но возможно ли такое? Ведь даже христианские мистики говорят о ничто как предшествующем Богу. Отец Сергий Булгаков пишет: «В отношении к этому Ничто всякое бытие: божественное ли, или мировое и человеческое, есть уже некое что: в Ничто возникает что…» [9, с. 122] А Эмиль Сиоран замечает: «Над нами всегда кто-то стоит, и даже над Богом возвышается Небытие». [38, с. 78]
Практически каждый человек в своем подсознании скрывает нигилистические идеи. При этом вопрос стоит только так: выступить на стороне истины или на стороне жизни. Любой «нормальный» человек перед лицом такой дилеммы неизбежно выбирает жизнь, причём не столько под влиянием разума, сколько подчиняясь инстинкту. Как писал в этой связи Джек Лондон: «Инстинкт создаёт, выполняет работу видов. Разум критикует, разрушает, отрицает и заканчивает чистым нигилизмом». [21, с. 158] Поэтому истина последовательного нигилизма каждый раз представляет собою крайне индивидуальное, личное переживание. У каждого, кто решился заглянуть за пределы «наличной реальности», она своя. Философия небытия это одновременно танатософия.
Способно ли что-нибудь решить проблему страданий всего человечества? Атомная бомба? Этот вариант не обсуждался ни Шопенгауэром, ни Буддой. Любой опыт умирания является глубоко индивидуальным. Как говорил Морис Бланшо в эссе «Литература и право на смерть», главный недостаток окончательной смерти заключается в том, что она напрочь лишает человека возможности испробовать опыт умирания еще раз. [3, с. 61]
«Жизнь облечена в смерть и вместе с тем пронизана смертью; она с начала до конца окутана смертью, проникнута и пропитана ею. Итак, лишь при поверхностном и чисто грамматическом прочтении бытие говорит только о бытии и жизнь – только о жизни. Жизнь говорит нам о смерти, более того – только о смерти она и говорит. Пойдем далее: о чем бы ни зашла речь, в каком-то смысле речь идет о смерти; говорить на любую тему – например, о надежде, – значит непременно говорить о смерти; говорить о боли – значит говорить о смерти, не называя ее; философствовать о времени – значит, при помощи темпоральности и, не называя смерть по имени, философствовать о смерти; размышлять о видимости, в которой смешаны бытие и небытие, значит имплицитно размышлять о смерти…», – писал Владимир Янкелевич. [67, с. 99]
Когда мы слышим о том, что кто-то умер, у нас иногда возникает весьма странное чувство. Это ощущение возникает помимо нашей воли, и мы подвергаем себя жесткому анализу в такие моменты. Мы честно спрашиваем себя: «А ты готов умереть прямо сейчас? Сию минуту?» Признаемся: далеко не всегда мы отвечаем утвердительно. Мы почему-то вспоминаем, что у всех мертвецов глубоко в носовые пазухи вложена вата, чтобы не вытекала жидкость. Мы представляем, как их перед похоронами выпотрошили и наскоро заштопали от лобка до горла. Мы слышим глухие удары молотка по гробу и видим, как ящик опускают в холодную глиняную яму. Мы видим могильщиков, за считанные минуты засыпающих эту яму. Блин, а как там дышать-то?!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: