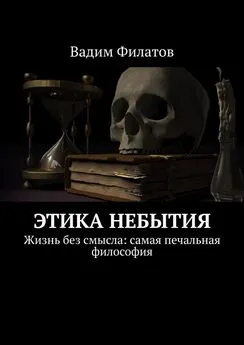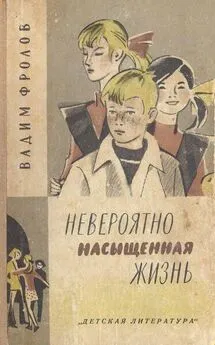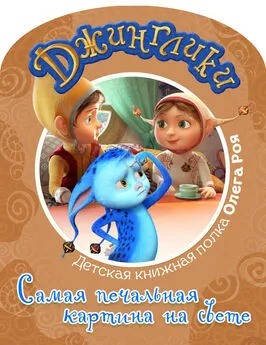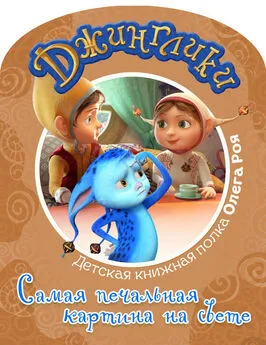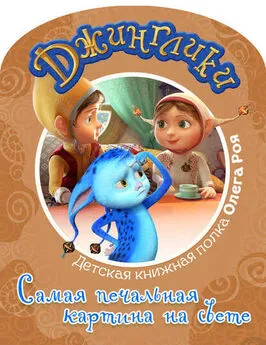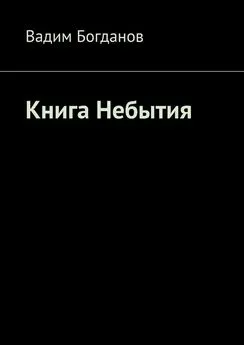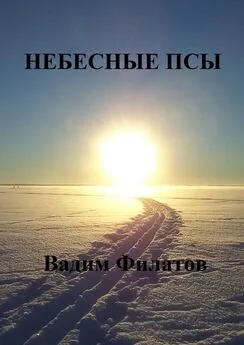Вадим Филатов - Этика небытия. Жизнь без смысла: самая печальная философия
- Название:Этика небытия. Жизнь без смысла: самая печальная философия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449613813
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Филатов - Этика небытия. Жизнь без смысла: самая печальная философия краткое содержание
Этика небытия. Жизнь без смысла: самая печальная философия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Философия небытия исходит из того, что разочаровать способно нечто, а ничто разочаровать не может. Человек небытия проходит свой путь в мире бытия, лишь слегка касаясь вещей. Стоя перед выбором между нечто и ничто, он выбирает ничто, минимизируя, насколько это возможно, любые бытийственные аспекты своего жизненного пространства. Для того, чтобы уменьшить контакты с миром, лучше всего уйти внутрь себя и навести порядок там. А чисто внешние формы ухода часто оказываются частью мира со всеми его пороками. Получается, что человек ушел из мира, но мир от него никуда не ушел. Мир структурно воспроизводит себя в любом микросоциуме.
Почти все современные философские идеи, так или иначе затрагивающие тематику небытия, старательно игнорируют проблему страданий. «Обстоятельство, чрезвычайно усиливающее хватку боли, заключается в её безразличии к нашим иерархиям. Нет ни одной человеческой ситуации, которая была бы защищена от боли», – утверждал немецкий мыслитель Эрнст Юнгер. [66, с. 44] Возможно, что в безразличии боли к социальным иерархиям и заключается единственная, доступная человеку справедливость. Но почему всё-таки мир полон страданий? Буддизм и Шопенгауэр отвечают на этот вопрос в том духе, что люди сами выступают как источник своих страданий, потому что множат иллюзии, а потом страдают от этого. Филипп Майнлендер утверждал, что мир плох, потому что мы живем в разлагающемся трупе Бога. В современной отечественной литературе о небытии встречаются идеи о том, что небытие это и есть Бог. Мысленно поменять бытие и небытие местами конечно возможно, но что от этого меняется в онтологическом или экзистенциальном плане?
Человек боится смерти так же, как ее боится любое чувствующее живое существо. В отличие от прочих животных, человек знает о своей смертности, сознает её неизбежность. Но ведь, если вдуматься, бояться следует не смерти, а жизни. Именно в ней, в жизни, вся боль, страдание, разочарование, угнетение и несправедливость. Как писал Омар Хайям: «страшнее жизни что мне приготовил рок?» [52] В этой связи смерть может представляться как желанное событие, как возвращение домой после трудного жизненного путешествия, как приход туда, откуда мы по какому-то странному и нелепому недоразумению пришли на очень непродолжительный срок. Смерть можно воспринимать как исцеление от боли жизни. Вечный покой, который принесет нам смерть, не может быть для умершего объектом познания, ведь умерший – это абсолютно отсутствующий человек. Некому и нечего познавать. Артур Шопенгауэр писал: «Индивидуальность большинства людей так жалка и ничтожна, что они поистине ничего в ней (со смертью) не теряют… Требовать бессмертия индивидуальности – это всё равно, что желать бесконечного повторения одной и той же ошибки… Содержание индивидуального сознания, в большей части своей, а обыкновенно и сплошь представляет собою не что иное, как поток мелочных, земных, жалких мыслей и бесконечных забот, – дайте же и им, наконец, успокоиться!» [64, 2, с. 410] Ничто у Шопенгауэра парадоксально становится бытием, которое, в свою очередь, представляет собой материал для уничтожения. Бытие имманентно приходит к своей аннигиляции. Таким образом, ничто, отрицая себя, всякий раз еще полнее приходит к себе.
Если всё, включая нас, считать условно-сущим, несуществующим, то неизбежно возникает вопрос: что такое смерть индивидуума? В контексте философии небытия смерть – это переход из пустоты относительной в пустоту абсолютную. Вот здесь-то, несмотря на внешнюю логическую убедительность, заключена проблема. Получается, что разница между жизнью и смертью настолько незначительна, что и говорить об этом нет смысла. Если дистанцироваться от всего нашего жизненного опыта и посмотреть на жизнь со стороны, то, кажется, так оно и есть – мы отделены от абсолютной пустоты тончайшей плёнкой, которая в любой момент способна разорваться от самых лёгких прикосновений. Достаточно нелепого пустяка, чтобы наша жизнь прекратилась. Проблема в том, что подобный отстранённый взгляд возможен лишь в отдельные короткие моменты нашей жизни, но изнутри мы так ситуацию не воспринимаем. Мы чувствуем себя живыми и ощущаем не просто большую разницу между жизнью и смертью, но разницу абсолютную. Именно поэтому наша грядущая смерть видится нам как событие исключительное, экстраординарное, не имеющее аналогов в пережитом и перечувствованном нами. Именно поэтому люди (за отдельными исключениями) страшатся и избегают смерти.
Интересно, что Сиоран в эссе «Самый древний из страхов» подверг критике финал рассказа Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». В последние минуты жизни Иван Ильич почувствовал радость и увидел свет. Сиоран по этому поводу пишет: «Эта радость и этот свет не убеждают, они привнесены извне, они искусственны. Нам трудно допустить, что им удаётся рассеять мрак, в который погружается умирающий: ничего, впрочем, не предрасполагало его к этому ликованию, которое никак не гармонирует ни с бесцветностью героя, ни с одиночеством, которое подстерегло его. С другой стороны, описание его агонии производит такое гнетущее впечатление в силу точности деталей, что его невозможно было бы закончить, не изменив тональности и масштаба повествования». [38, с. 79] Мы не знаем наверняка, что испытывает в последние минуты покидающий этот мир человек. Когда нам доведется проходить сквозь врата смерти, мы узнаем это, только вот рассказать никому не сможем. Но наши попытки хоть немного приоткрыть завесу тайны продолжаются, и мы рисуем в своем воображении разные картины. К примеру, вполне допустимо, что на каком-то этапе умирания страх может исчезнуть и может смениться радостью. А почему бы и нет? Хотя всё это предположения… Люди умирают по-разному, а посмертная гримаса иногда показывает самые разные эмоции. Так, автор книги «Формула смерти» Евгений Черносвитов [62] коллекционирует посмертные маски известных людей, и осуществляет эксперимент – в полумраке водит зажженной свечой над той или иной маской и они оживают: на гипсовых лицах отчетливо проявляются эмоции. У кого-то недоумение, у кого-то удивление, у кого-то гнев, у кого-то – плаксивая гримаса. Если это не субъективные ощущения экспериментатора, то получается, что в момент умирания (если смерть не наступила мгновенно) люди могут испытывать самые разные эмоции.
И это неудивительно. Смерть, безусловно, имеет положительные свойства. В частности, она находится ближе всего к справедливости, понимаемой через равенство, ибо уравнивает всех. И, в конечном итоге, освобождает от наличного зла.
Недавно скончавшийся мурманский нейрохирург П. Рудич, автор замечательной во всех отношениях книги «Не уверен – не умирай», повествует об этом так:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: