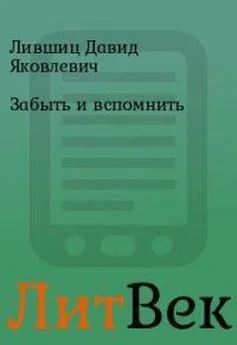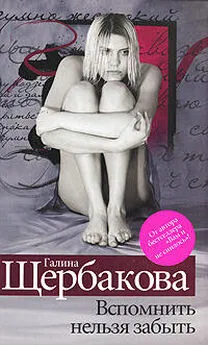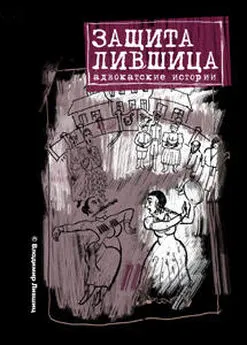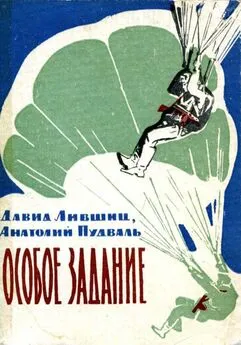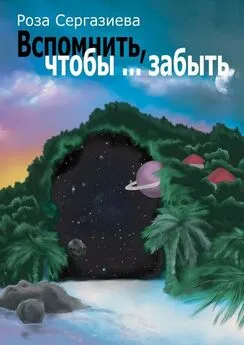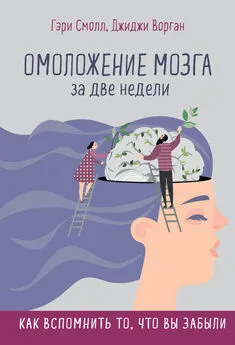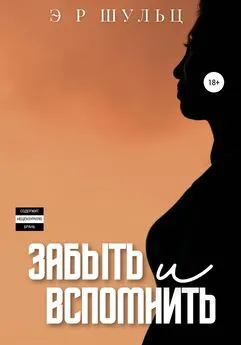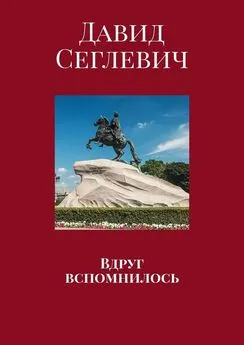Давид Лившиц - Забыть и вспомнить
- Название:Забыть и вспомнить
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2004
- Город:Екатеринбург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Давид Лившиц - Забыть и вспомнить краткое содержание
Родился в 1928 году.
Закончил Уральский Государственный университет им. А.М. Горького.
Работал в газетах, на телевидении, в журналах “Урал” и “Уральский следопыт”.
Автор нескольких книжек для детей, альбома “Признание” (фотографии Нади Медведевой) - о Свердловске, документальной повести “Особое задание” (совместно с А. Пудвалем), сборников стихов “Предчувствие ностальгии”, “Негевский дневник”…
Книга -”Забыть и вспомнить” – из последнего.
В 1992 году переехал к детям в Израиль. Живёт в Беэр-Шеве, городе, многократно упоминаемом в Библии.
Член Союза журналистов России, член Союза русскоязычных писателей Израиля.
Забыть и вспомнить - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Ни рыба, ни мясо, ни кафтан, ни ряса».
«Нищему пожар не страшен: эта деревня сгорела, в другую пошёл».
«Без меня меня женили, я на мельнице был».
«Назвали гостей со всех волостей, а потчевать нечем».
«Дорога ложка к обеду, а там хоть под лавку».
«Язык мой – враг мой, прежде ума глаголет».
* * *
Нам жизнь преподаёт уроки,
Но мы внимать им не хотим,
И тайные свои пороки
Спешим приписывать другим.
* * *
Правильно сказано: времена нас меняют, потому что они, времена, сами переменяются. Оставайся они неизменными, ещё неизвестно, что бы мы в себе изменяли… В не столь отдалённые годы, задолго до бурных дней исхода евреев из России, один мой знакомый, поэт и драматург, добился отъезда в Израиль. Известие об этом взбудоражило город, - случай был редкий и сам по себе, и «отъезжанта» хорошо знали, – смотрели его спектакли, пели знаменитые его песни. Он был уже, как говорится, на колёсах, когда однажды на улице, встретив знакомую, кинулся здороваться. Эта женщина, известный композитор, (к слову, еврейка), демонстративно спрятала руки за спину и громко, гневно, на всю улицу, сказала: - «Предателям руки не подаю!»
Он уехал в Израиль, потом перебрался в Америку, собирался вернуться, но вскоре он умер. Прошло сколько-то лет. У композиторши случилась беда - умер взрослый сын, в отлучке, в Москве, его перевезли в родной город, где и похоронили.
Прошло ещё сколько-то лет. Однажды я и эта женщина, - назовём её Н., – оказались по печальному поводу на главном городском кладбище, - хоронили поэта С. Церемония задерживалась, и Н., пользуясь паузой, отозвала меня в сторонку - показать могилу сына и памятник, который не так давно поставила ему. Памятник был дорогой и сделан со вкусом. Неожиданно Н. понизила голос, оглянулась, - нет ли поблизости знакомых, и попросила меня взглянуть на торец стелы. Обелиск оказался высоким, и, чтобы увидеть верх, пришлось встать на приступку ограждения: с земли не видать, что там на торце. А на торце была вырезана шестиконечная Звезда Давида. «Я специально сделала так, - негромко сказала Н., - чтобы не надругались». Кто жил в те годы, знает, что означала эта звезда для обывателя. Десятилетиями она встречалась только в карикатурах, вызывая у просвещенного народа ненависть и насмешки. И хотя времена менялись, хотя менялись и евреи, никому не пришло бы в голову поручиться, что не раздавят памятник, увидев эту звезду. Что, как известно и случалось потом не раз, и не в одном месте. Прошло ещё несколько лет. Н., с которой, в общем-то, мы не были особенно близки, прослышав, что я уезжаю к детям в Израиль, позвонила, чтобы попрощаться. А потом и письмо написала, спрашивала о житье-бытье в стране. В той самой, чьё имя когда-то вслух с оглядкой называли. И не подавали руки тем, кто в эту страну уезжал.
* * *
Студентом мне посчастливилось быть на встрече с Твардовским: он выступил в Уральском Университете. Зал был, помню, переполнен и возбужден. Поэт сильно опаздывал, его задерживали на Уралмаше. Мы терпеливо ждали. Наконец, он появился на сцене в сопровождении каких-то местных функционеров. Я сидел на первом ряду и хорошо видел людей в свете рампы. Твардовский был высок. Плотен. Скульптурен. Но казался усталым и сдерживающим внутреннее напряжение. Объявили: - Выступает поэт Александр Твардовский! Вот тогда я впервые и услышал слова, которые запомнил. Твардовский шагнул к краю сцены, как-то нервно, даже досадливо, мотнул головой, словно боднулся, и проговорил: -Хм! «Поэт!» Сказать о себе «поэт», это всё равно, что сказать о себе: я хороший человек. Потом уже начал читать стихи. Всю жизнь я связывал эти слова с Твардовским. Но, к удивлению своему, совсем недавно прочел у И. Бродского, в одном из его интервью: «Поэтом я стал волею обстоятельств. Называть себя хорошим поэтом почти так же неприлично, как хорошим человеком». И ещё более определённо повторил в другом месте, поразившем меня ссылкой на источник: оказывается, Бродский не приписывает себе авторство: «Роберт Фрост говорит: «Сказать о себе, что ты поэт, так же нескромно, как сказать о себе, что ты хороший человек». Твардовский на 25 лет моложе Фроста, Бродский – на тридцать моложе Твардовского. Но речь не о приоритете: вполне вероятно, что каждый сказал это сам по себе, для великих это дело обычное. Дело в другом, в том, что подлинный талант – самокритичен, требователен к себе, и – скромен. Я был удивлён, услышав из уст Игоря Губермана, фактически уже классика, - во всяком случае, в своём жанре, - небрежное определение собственного творчества: «стишки». («А теперь почитаю свои стишки», или: «Тут у меня в одном стишке…»). А потом встречаю в интервью у Бродского то же самое – «стишки», - это он о собственных стихах. Прямо, как самоуничижение, но думается, это у них вполне искренне. Всем прочим остаётся только брать пример с великих. Что, по возможности, и делается. Юра Арустамов, например, называет свои стихи текстами. А я уже давно именую то, что напишется, упражнениями.
* * *
Когда всё складывалось к нашему отъезду в Израиль, одни русские друзья поддерживали идею нашего уезда («надо», «что ж», «уезжайте» и т.д.), другие были непримиримо против. Загадка: кто более друг?
* * *
Расхожий анекдот: если на трапе самолёта среди очередной партии репатриантов, прибывших из России, обнаружится человек без скрипки в руке, значит, он пианист. Это не только к тому, что евреи «сплошь» музыканты, - на такое обилие одинаковых специалистов работы не напасёшься. Однако, речь не только о музыкантах. И о классных специалистах, волею судьбы попадающих на чёрные работы. Наблюдая, как профессора и кандидаты наук, журналисты и писатели, артисты и музыканты, вооруженные метлой, совком и тележкой для мусора, метут под палящим солнцем зачуханные дороги и заплеванные тротуары, я думаю об их северном собрате – первопроходце – гениальном Андрее Платонове. Едва ли не первым он пошёл этим «другим» путём, предпочтя непристижный, но независимый труд другому. Услужливому. Не всякий дворник вышел в Платоновы, но никто не ведает, сколько Платоновых умерло в дворниках. (Теперь стали поговаривать, что Платонов вроде бы и не мёл улицы. Но если это и легенда, то из тех, которые правдивее были).
* * *
Старость… О ней много сказано. Вот у Маркеса: «Старость – это честный союз с одиночеством». Думаю, Одиночеству, неприкаянному, тоже где-то приткнуться надо, вот оно и находит самое удобное местечко - возле стариков.
* * *
Специфика анекдота состоит в том, что он подразумевает в слушателе определённый житейский опыт и знания. Пример:
- Рабинович! Почему вы в такую жару ездите в машине с наглухо закрытыми окнами?
- Пусть все думают, что у меня в авто кондиционер.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: