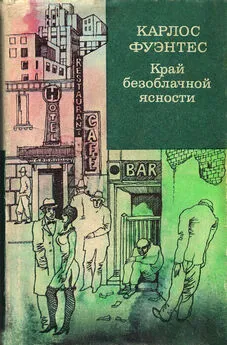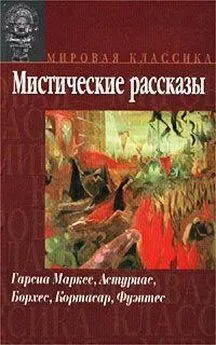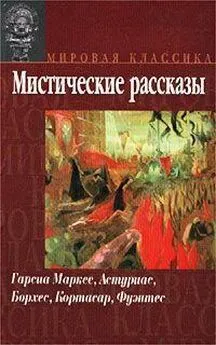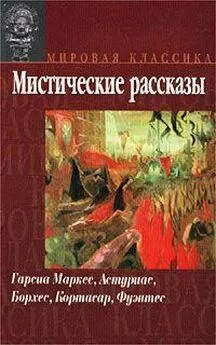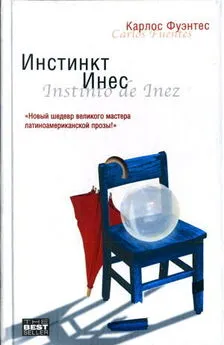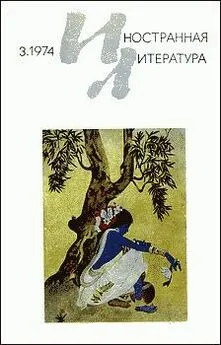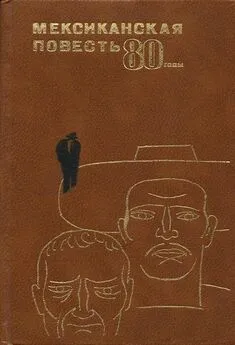Карлос Фуэнтес - Край безоблачной ясности
- Название:Край безоблачной ясности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1980
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карлос Фуэнтес - Край безоблачной ясности краткое содержание
Край безоблачной ясности - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Jive, boy, jive! [71]
— А что ты скажешь об этом ударе сверху? Лихо, черт побери! Паренек свое дело знает!
— Он воображает, что, если я его подчиненная, он имеет право на все.
— Jive, boy, jive!
— Увеличение заработной платы?
— В это время мать повысили в должности, а я остался в школе один. Роберто уехал, а он был мой единственный друг. Теперь, когда я лишился покровительства Регулеса, богача, чей отец субсидировал школу крупными суммами, все ребята принялись насмехаться надо мной и щелкать меня резинками по ногам,
Пола, Пола, Пола гад, поцелуй-ка меня в зад
а я притворялся больным, чтобы не ходить в школу. Я начал покупать книги на деньги, которые мать по воскресеньям давала мне на кино и мороженое, и читать их на крыше, пока не заходило солнце; спускался, прежде чем мать возвращалась из центра, ужинал и уходил в свою комнату читать; и тогда мама стала по вечерам усаживать меня возле себя и говорить, не отрываясь от вязания: «Ты никогда не рассказываешь мне о своих планах, сынок; что ты собираешься делать?» Но я не отвечал и думал о магических словах, которые уже ничего не означали, или о «Виконте де Бражелоне», или о резинках, от которых у меня были синяки на ногах. Как она говорила? «Помни, каким бы одиноким ты ни был, у тебя есть мать, которой ты всегда можешь довериться и все рассказать. Ты уже взрослеешь, и если не будешь рассказывать матери все, что с тобой происходит, тебя одолеют сомнения и ты не сможешь ни в чем разобраться», а я оглядывал нашу маленькую гостиную, общую комнату нашей семьи, состоявшей из меня, матери и призрака отца, лампу под абажуром из зеленого бархата; стол с блюдом для фруктов, от которого пахло гнилью, и жесткие стулья вокруг него; плетеное кресло-качалку, в котором по вечерам сидела мать за вязаньем или шитьем; диван, тоже плетеный, тоже обшарпанный; деревянный потолок, покрашенный розовой краской; окно с ситцевыми занавесками; дверь с бронзовым колокольчиком. И только теперь, когда я слушал эти слова матери, мне пришла в голову мысль, что мне предстоит когда-нибудь покинуть этот дом, оставить позади эти чашки шоколада и клубки ниток, и я безотчетно подумал, что, как бы далеко я ни ушел, мать не останется одна, потому что с ней всегда будет призрак с нафабренными усами и бравой улыбкой, и, должно быть, она поняла это — как понимала многое за минуту до меня, словно угадывала по моим идиотским, широко раскрытым глазам все, что я думаю, словно только благодаря мне, но всегда за минуту до меня, она могла узнавать некоторые вещи, — и поэтому никогда не возвращалась к тому, что сказала мне в тот вечер, никогда не повторяла эти легковесные слова, которые не нашли у меня отклика, которые я никогда не считал верными и которые, как я вижу теперь, лишь выражали ее желание как бы вобрать меня в себя, удержать в своем лоне и всегда, до конца наших трех жизней, неустанно производить меня на свет в нескончаемых родах, длящихся днями и ночами и годами, вечных родах, в которых она будет черпать силы и сознание своей правоты и которые возвысят ее, как монумент, воздвигнутый на плаценте, как воплощение матери-природы, живой и наэлектризованной природы, равнодушной к жизни людей, к городской суете, к проектам и бумагам — ко всему, кроме своего единственного непрерывного акта: акта рождения. Поэтому, когда я спросил ее: «Папа хорошо относился к тебе?», она все поняла, все прочла в моих идиотских, широко раскрытых глазах и, уронив спицы на подол, закусила губы. Слова, которые она произнесла, Икска, необъяснимы, как своевольная природа, как мать, для которой существует лишь одна подлинная правда — разверзающееся лоно, длящийся всю жизнь момент родов, и, как бы ни толковать эти слова, я их никогда не пойму. Она сказала: «Твой отец был трус, который выдал своих товарищей и умер как дурак, оставив нас в нищете».
Родриго спрятал свое изменившееся лицо, уткнувшись в чашку кофе. Сьенфуэгос принялся барабанить пальцами по столу в такт проигрывателю, стонавшему: Если бы не умер Хуарес, родина была бы спасена. Родриго поставил чашку на липкое блюдечко.
— Потом я вспоминаю себя, с запавшими глазами и позеленевшей кожей. Мне было тогда семнадцать лет, и я собирался поступить на подготовительный факультет университета. Школа маристов закрылась, и мать очень боялась, как бы на подготовительном со мной чего-нибудь не случилось. После той сцены мы уже не могли разговаривать между собой — разве только просили друг друга о чем-нибудь, касающемся домашнего обихода, обменивались двумя словами, когда уходили и приходили. Но она следила за каждым моим движением, жадно ловила все, что позволяло ей выведать, что я делаю, когда остаюсь один. Теперь она в одиночестве вязала в гостиной, стараясь безмолвно сказать мне что-то, и я это чувствовал в своей комнате, где каждый вечер брался за перо, потому что, наконец, пришло открытие. Я писал в лихорадочном напряжении, не зная толком, какие слова ложатся на бумагу, уверенный в одном: что бы ни вышло из-под моего пера, это важно. Важно потому, что писать — для меня единственный способ сказать: я есмь. Я. Я, отличный от всех других, а не один из многих. Я, тождественный только себе самому. Единственный. Даже бог не может заменить меня другим. Если бы я был другим, рухнул бы мир. Луна была бы солнцем, день исходил бы от другого светила. Меня нельзя заменить другим, а другого мной. Я читал Гарсиласо и чувствовал, что вступаю в совершенный, гармоничный мир, в котором все могли бы любить, жить, видеть других и представать перед другими, не стыдясь и, главное, не нуждаясь в оправданиях. А когда мне в руки попался томик Рембо, я подумал, что встретил своего подлинного брата и друга, который сумел бы понять и разделить со мной великое открытие, великое несчастье. Я писал, сжимая зубы; толкал лампу, свисавшую с потолка, чтобы, глядя, как мечутся тени, почувствовать, что они мечутся и во мне самом, что комната уже не внешнее пространство, а мой собственный мозг, одновременно огромный и крохотный, пляшущий в шальном и фатальном ритме. Потом я без сил валился на кровать. Молча, с закрытыми глазами раздевался, залезал в постель и ждал головной боли, с которой я, бывало, каждое утро готовился к той ужасной минуте, когда войду в школу. На подготовительном я познакомился с группой моих сверстников, которые тоже интересовались литературой. Их возглавлял Томас Медиана, который проектировал издавать журнал, где будут печататься в переводе произведения всех новых европейских писателей, неизвестных Мексике. Они слегка посмеялись над моим неумеренным увлечением Гарсиласо, но, когда я заговорил о Рембо, присмотрелись ко мне и решили, что я достоин принимать участие в их беседах во время перемен. Томас спросил, читал ли я Жида, и обещал показать мне свою библиотеку: «Я подписан на N.R.F. [72]и получаю все новинки. Здесь даже не слышали о Марселе Прусте. А ведь существует новое, действительно современное мировосприятие». Дружба с этими молодыми людьми окрылила меня. Все они, как и я, числились на юридическом отделении, но никто не читал книг по правоведению. «Это поприще ближе всего к тому, что нас интересует, — говорил Медиана. — Наши родители считают, что позорно не иметь диплома, уж не говоря о том, что без него мы будем подыхать с голоду. Время богемы прошло!» Я принялся шлифовать свои стихи, чтобы показать их Томасу, и когда кто-нибудь из моих новых друзей говорил мне: «Когда же мы почитаем твои вещи?..» — как это волновало меня, Икска, как это волновало меня! Ты помнишь эти дни? Какие неисчерпаемые силы мы чувствовали в себе, как мы верили, что нам суждена великая будущность! Искусство, литература, наши новые магические слова… Помнишь, как Ороско расписывал подготовительный? После занятий я подолгу наблюдал за напоминавшей паучка фигуркой художника, который, часами стоя на лесах, одной рукой заполнял формами и красками старые стены. Я чувствовал, что эти краски принадлежат мне, что произошло нечто значительное, раз эти краски смогли появиться и заговорить и сказать каждому, кто он, чем он живет, что представляет собой как личность. Потом я начал поздно возвращаться домой: часами сидел с новыми друзьями в кафе где-нибудь в центре — помнишь, Икска, какие они были в ту пору? Пабло Береа, самый серьезный из нас, уже достигший успеха как поэт и выдвинувшийся на службе; Луис Пинеда, выпустивший сатирический журнал; Хесус де Ольмос, высокий и вылощенный, сыпавший каламбурами; Рамон Фриас, скромный и аккуратный, скупой на слова и точный в выражении мысли, без конца работавший над длинной поэмой, которую держал в тайне; Хорхе Тайльен, самый старший, уже побывавший в дальних краях и опубликовавший три сборника стихов, поражавших яркостью и новизной; Роберто Ладейро, самый таинственный, самый блестящий, провозвестник новых идей, и Томас Медиана, маленький и бледный, всегда в черном, полный сатанинского юмора. С каким энтузиазмом, Икска, я произносил тогда их имена! Они были жрецами нового культа, который обещал нам возможность посредством поэзии спастись как личности и оставить наследие красоты.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: