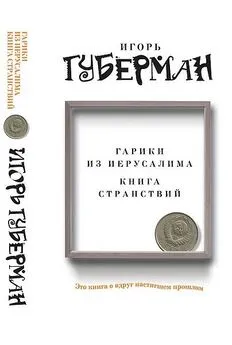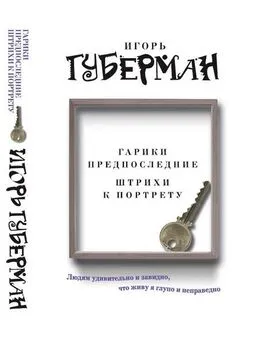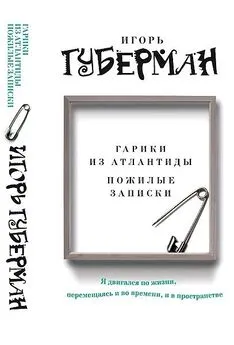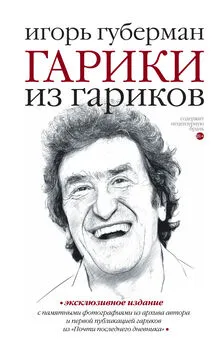Игорь Губерман - Гарики из Иерусалима. Книга странствий
- Название:Гарики из Иерусалима. Книга странствий
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, Астрель
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-073146-6, 978-5-271-34281-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Губерман - Гарики из Иерусалима. Книга странствий краткое содержание
«Гарики из Иерусалима» — четверостишия не только об Израиле, но и о России, не только о евреях, но и о русских; это гарики — о жизни, о мелочах…
«Книга странствий» — записки «не поверхностного туриста, а настоящего и заядлого путешественника», посмотревшего не меньше, «чем Дарвин, видавший виды».
Гарики из Иерусалима. Книга странствий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Усталы, равнодушны и убоги,
к мечте своей несбыточной опять
плетемся мы без веры и дороги,
мечтая перестать о ней мечтать.
Судьба рабов подобна эху —
рабы не в силах угадать,
мед или яд прольется сверху
и сколько длится благодать.
Душа не призрак-недотрога,
в душе текут раздор и спор:
в ней есть бурчание, изжога,
отрыжка, колики, запор.
Еврей живет пока неплохо,
но век занес уже пращу:
— Шерше ля Хайм, — кричит эпоха, —
сейчас я вмиг его прощу!
Сокрыто в пьянстве чудо непростое,
столетия секрет его таят,
оно трясет российские устои,
которые на нем же и стоят.
Я горе хотя и помыкал,
но пробыл недолго в тюрьме,
а вылетя, вновь зачирикал,
копаясь в любимом дерьме.
Судьба разделится межой,
чужбина родиной не станет,
но станет родина чужой,
и в душу память шрамом канет.
Еще на поезд нету давки,
еще течет порядок дней,
еще евреи держат лавки,
где стекла ждут уже камней.
Власть невольно обездолила
наши души вольных зэков,
когда свыше нам позволила
превращаться в человеков.
Под сенью пылкой русской дерзости
и с ней смыкаясь интересом,
таится столько гнусной мерзости,
что мне спокойней жить под прессом.
Китайцы Россию захватят нескоро,
но тут и взовьется наш пафос гражданский,
в России достанет лесов и простора
собраться евреям в отряд партизанский.
Он мерзок, стар и неумен,
а ходит все равно
с таким лицом, как будто он
один лишь ел гавно.
Когда протяжно и натужно
рак на березе закукует,
мы станем жить настолько дружно,
что всех евреев — ветром сдует.
Смотрю, как воровскую кинопленку,
шаги моей отчизны к возрождению;
дай бог, конечно, нашему теленку,
но волк сопротивляется съедению.
За личных мыслей разглашение,
за грех душевной невредимости
был осужден я на лишение
осознанной необходимости.
Потом прощен я был державой
и снова вышел на свободу,
но след от проволоки ржавой
болит и чувствует погоду.
Скисает всякое дерзание
в песке российского смирения,
охолощенное сознание
враждебно пылу сотворения.
Когда укроет глина это тело,
не надо мне надгробие ваять,
пускай стоит стакан осиротело
и досуха распитая ноль-пять.
Еврей, возросший в русском быте,
не принял только одного:
еврей остался любопытен,
и в этом — пагуба его.
Скудно счастье оттепельных дней:
вылезли на солнце гнусь и мразь,
резче краски, запахи гавней
и везде невылазная грязь.
Какие бы курбеты с антраша
искусство ни выделывало густо,
насколько в них участвует душа,
настолько же присутствует искусство.
Моя еврейская природа —
она и титул, и клеймо,
она решетка и свобода,
она и крылья, и ярмо.
Раньше вынимали изо рта,
чтобы поделиться с обделенным,
русская былая доброта
выжглась нашим веком раскаленным.
Мираж погас. Огонь потух.
Повсюду тишь недужная.
В дерьме копается петух,
ища зерно жемчужное.
Увы, с того я и таков
на склоне лет,
что время учит дураков,
а умных — нет.
Слухи с кривотолками,
сплетни, пересуды,
вязкие потоки
пакостных параш —
льют пустопорожние
скудные сосуды,
злобясь, что в соседних
пенится кураж.
Я знаю дни, когда нечестно
жить нараспашку и заметно,
когда все мизерно и пресно,
уныло, вяло и бесцветно.
В такие дни, умерив резвость,
лежу, спиной касаясь дна.
Периодическая мерзость
в те дни особенно вредна.
Майский фейерверк
брызжет в декабре,
начат новый опыт,
веет свежий дух;
дождики в четверг,
раки на горе,
клеваные жопы,
жареный петух.
В нашей почве — худородной, но сочной
много пользы для души и здоровья,
и на дружной этой клумбе цветочной
лишь евреи — как лепешки коровьи.
Сменив меня, теперь другие
опишут царственную Русь,
а я очнусь от ностальгии
и с Палестиной разберусь.
Забавно мне, что в те же годы, когда я писал эти стишки, не веря, что такое счастье, как свобода, может наступить даже в России, были поэты, заклинавшие Бога (и православного, и Бога вообще), чтоб ничего не изменилось. Ужасно интересно вспоминать сегодня один трогательный стих того времени достославного Станислава Куняева:
От объятий швейцарского банка,
что мечтает зажать нас в горсти,
ты спаси нас, родная Лубянка,
больше нас никому не спасти.
Я теперь часто читаю этот стих на выступлениях, и мне со сцены ясно видно, что не только смех высветляет лица зрителей, но и какая-то теплая ностальгическая дымка — так, наверно, запах костра влияет на все чувства бывшего заядлого туриста. Очень пахнет нашим прошлым этот стих, а в любом минувшем совершенно независимо от его качества содержится неуловимая приятность. Я же лично вспоминаю сразу чье-то дивное двустишие по поводу как раз этого стиха:
Вчера читал Куняева —
мне нравится хуйня его.
И общий смех сдувает эту теплую волну приятства. Ужасно глупо, разумеется, начинять собственную книжку чужими стихами, но придется мне украсить эту главу гениальным (иного слова нет, и потому обидно мне вдвойне) четверостишием о том же времени поэта Фомичева (а если спутал я фамилию, прошу прощения, не записал). Думаю, что от такого четверостишия не отказался бы и Тютчев, хотя побрезговал бы его писать.
Пустеет в поле борозда,
наглеет в городе делец,
желтеет красная звезда,
у ней растет шестой конец.
Уже пятнадцать с лишком лет прошло с поры, как я писал стишки, приведенные тут в начале, но странная и грустная созвучность этих виршей дню сегодняшнему (если я не ошибаюсь, разумеется) заставила меня, презревши лень, восстановить и некую давным-давно написанную мной поэму. Когда явился на российском небосводе новый, явно долгоиграющий президент, я вспомнил вдруг, что я уже некогда пытался описать чувства, что возникли ныне в моей пустой (и потому отзывчивой для современности) голове. А так как я в те годы писал только о евреях, то поэма эта даже и названием своим (точней — двумя) привязана к любимой мною русской литературе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: