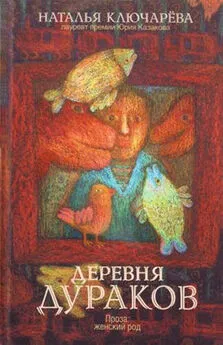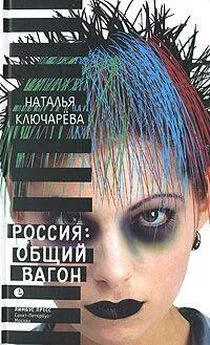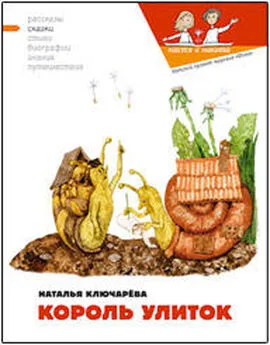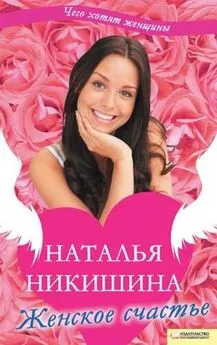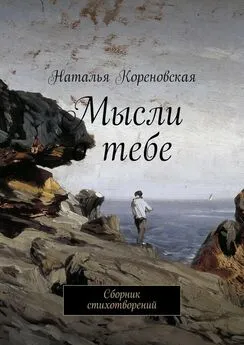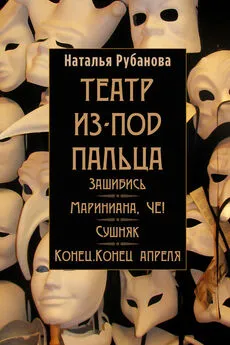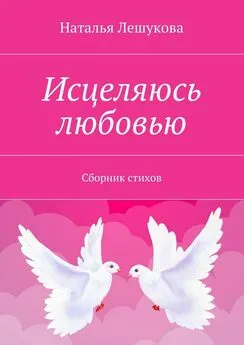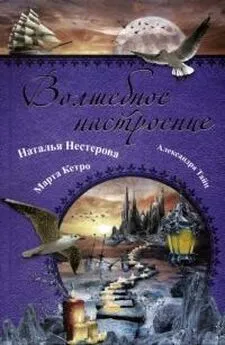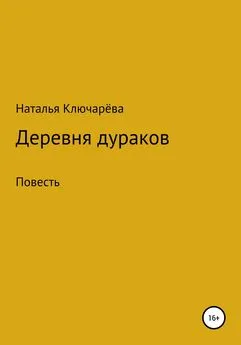Наталья Ключарева - Деревня дураков (сборник)
- Название:Деревня дураков (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Аудиокнига»
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-067671-2, 978-5-271-28371-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Ключарева - Деревня дураков (сборник) краткое содержание
Герой повести – молодой историк Митя – решил поработать сельским учителем в деревне Митино. Деревня как деревня, и жители в ней обычные – и старожилы, помнящие войну, и батюшка, и влюбчивые старшеклассницы, и блудница местная – Любка… А за деревней, подальше, стояла таинственная деревня дураков, о которой местные жители боялись даже думать. И пришлось Мите столкнуться с настоящей – неписаной – историей…
Деревня дураков (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Море, даже подземное, своими неявными колебаниями, подспудными приливами и отливами создает в человеке какой-то иной ток крови, дарит чувство, точнее, неотъемлемое свойство, называемое свободой.
Эта свобода рождается из доверия волнам, умения вверять себя их воле, не пытаясь навязать свою. Она приходит как награда за подвиг трезвой оценки человеческого масштаба на фоне космических явлений и сил, на фоне моря и неба.
Обитатели сухопутных равнин идут к этой свободе трудными тропами внутренних путешествий. Уроженцам морских и океанских берегов она дается даром. Как ежедневный опыт контакта с чем-то, неизмеримо превосходящим нас.
Всех этих людей – и родившихся у моря, и воспитавших морскую свободу в себе – объединяет одно: благодарное внимание к случайностям, мимо которых обычный самоуверенный житель Земли проносится без оглядки, одержимый собственным планом устроительства жизни и судьбы.
Художник Николай Локотьков, родившийся в деревне под Курском, попал в Старую Руссу случайно. Просто светлой летней ночью сошел с поезда, прогулялся по спящему городку, остановился на мосту со сказочным названием Живой, загляделся на отражение ив в тихой речке Полисти и вдруг понял: «Остаюсь».
Потом выяснилась неслучайность этого случайного решения: Михаил Локотьков, отец Николая, был тяжело ранен в боях за Старую Руссу, которую целых три года пытались отвоевать у фашистов.
То ли окликнула художника земля, политая родной кровью, то ли подземное море позвало родственным волнением, но Николай Локотьков в Старой Руссе прижился. Тому лет тридцать назад. И это была, разумеется, не последняя случайность.
Зимой Старая Русса выглядит довольно уныло. Впрочем, я не знаю ни одного города, которому это время года было бы к лицу. Грязная каша под ногами, обнаженное убожество одинаковых жилищ, землистые лица прохожих, однотонная униформа одежд.
На подходе к мастерской Локотькова, расположенной в типовой пятиэтажке, монохромность сероватого пейзажа дает трещину: подъезд караулят два ленивых рыжих кота. Третий, той же масти, нарисован на двери в мастерскую. А за дверью в изголодавшийся глаз обрушивается совершенно другой – радостный и радужный – мир.
Художник Локотьков гораздо больше дружит с детьми, чем со взрослыми. Устав отвоевывать прекрасную спонтанность этой дружбы у скучных завучей, боготворящих учебный план, Локотьков в свое время ушел из государственной художественной школы, где пытался работать, и стал заниматься с детьми в собственной мастерской.
Детскую студию Локотьков назвал «Введенская сторона». Так до революции именовалась часть города, где находится мастерская, теперь обозначаемая на картах неприятным словосочетанием «микрорайон Химмаш».
– Я выбрал жить в провинции у моря, – говорит Локотьков, пока я любуюсь витражными бабочками, заслоняющими заоконный Химмаш. – Считается, что в провинции жить нельзя. Всё умеющее бегать бежит отсюда в столицу. А ведь неважно, где ты, важно – что у тебя внутри. Поэтому я остался. Решил довериться внутреннему морю.
Если внутри – море, можно жить где угодно, в любом темном (или сером) царстве, но по своим законам. Жить на Введенской стороне, а не в микрорайоне Химмаш. Работать с детьми не в казенной «художке», а в собственной мастерской, похожей на самоцветный фонарь, засвеченный над сумерками уездной Руссы, которую живавший здесь Достоевский наградил обидным прозвищем Скотопригоньевск.
Мастерская Локотькова производит впечатление мира, созданного специально для детей, по крайней мере – удивительно к ним расположенного. Детям здесь хорошо. Хорошо и взахлеб интересно. Лазить по деревянным лестницам, ведущим на антресоли, тарабанить марш на старинной печатной машинке, звенеть в глиняные колокольчики, свисающие с потолка.
Что ни шаг – то открытие. Вот под столом – гипсовый нос величиной с голову ребенка. Вот в тарелке – расписанные яркими красками морские камушки или самодельные керамические пуговицы причудливых форм. Вот пузатая свеча, на которой тоже что-то нарисовано. А вот еще тарелка – на этот раз с печеньем! – Локотьков всегда расставляет гостинцы в самых неожиданных уголках мастерской, зная, что они рано или поздно будут обнаружены.
К Локотькову дети проявляют высшую детскую милость: они с ним играют. При мне две девочки, обе Саши, прячутся от него на антресолях, заваленных этюдами.
В соседней комнате Локотьков беседует о динозаврах с маленькими гостями, сидящими на разрисованных табуретках.
– Они жили давно, – авторитетно рассуждает мальчишеский голос. – Людей тогда еще не было.
– Только Адам и Ева! – вставляет кто-то.
– Только вулканы! – спорит мальчишка.
– А что это? – осторожно спрашивает Локотьков.
– Это злобные горы.
Вот в такой обстановке, под такие примерно разговоры художник Локотьков уже десять лет издает единственный в стране журнал об искусстве для школьников. Называется он тоже «Введенская сторона». Подписываются на него в сорока регионах России, в Европе, Америке и даже Австралии.
Журнал, выходящий в провинциальном городке, непонятно на какие деньги и усилиями одного-единственного человека (непрофессионала в издательском деле), сделан, тем не менее, на таком уровне, что в России его даже не с чем сравнить.
Разве только (по высокому стилю оформления) с журналом «Наше наследие», основанным Дмитрием Сергеевичем Лихачевым и его Фондом культуры. А вот по содержанию у «Введенской стороны» аналогов нет.
Журнал создает пространство особого взаимодействия с классикой – не подражательного или панибратского, а уважительного и свободного. Устанавливает между маленьким художником и миром большого искусства отношения плодотворного ученичества: доверительные и равноправные.
Локотьков не боится поставить рядом, например, натюрморт Петрова-Водкина и букет, нарисованный девятилетней девочкой из рыбацкого поселка на острове Сахалин. И происходит чудо: взрослое не подавляет детского, но бережно и деликатно ведет за собой, незаметно подсказывая возможное направление роста.
«Введенская сторона» появилась на свет благодаря целой цепи случайностей. Выпустив первый номер журнала, Локотьков твердо решил, что больше этим утомительным и трудным делом заниматься не будет.
Но так получилось – случайно, случайно! – что кто-то отнес первый и, как думалось, последний номер «Введенской стороны» на другой берег речки Полисти, в музей Достоевского. А туда вдруг приехала литературовед Людмила Сараскина, тогда еще не написавшая свою знаменитую книгу о Солженицыне. Полистав журнал, она увезла его с собой в Москву, где показала Александру Исаевичу. А тот возьми да и отправь в Старую Руссу коротенький рассказ «Колокол Углича». С автографом и с просьбой опубликовать в следующем номере «Введенской стороны».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: