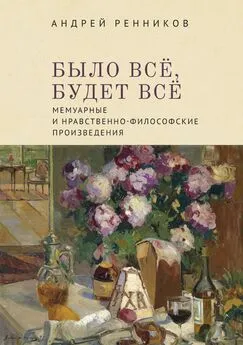Михаил Талалай - Было все, будет все. Мемуарные и нравственно-философские произведения
- Название:Было все, будет все. Мемуарные и нравственно-философские произведения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алетейя
- Год:2020
- ISBN:978-5-00165-153-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Талалай - Было все, будет все. Мемуарные и нравственно-философские произведения краткое содержание
Было все, будет все. Мемуарные и нравственно-философские произведения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
A после подобных литературных вечеров и художественных выставок тех же изысканных интеллигентов можно было встретить ночью в кабачке «Бродячей собаки», где новая литература и новая живопись заедались севрюжиной с хреном.
«Русский народ иногда бывает ужасно неправдоподобен», – говорил Достоевский. Но это едва ли верно по отношению к простому народу. И рабочие и мужички были очень правдоподобны, знали, чего хотят. А вот интеллигенция, действительно, отличалась некоторым неправдоподобием. В мечтах своих металась от богоискательства к марксизму, от конституции к футуризму, от футуризма к севрюжине с хреном; была идейна, любвеобильна, образована, даже умна.
Однако, умна как-то странно. Приблизительно так, как это в несколько грубой форме определил толстовский мужик:
– Барин наш человек умный, но ум-то у него дурак.
Знакомство с деревней
Перед самой войной работы у меня в «Новом времени» было много. Кроме писания очередных фельетонов и рассказов, приходилось редактировать в газете «Отдел внутренних известий», в котором печатались корреспонденции со всех концов России и провинциальная хроника. Попутно с этим редактировал я и литературно-художественный журнал «Лукоморье», открытый по моей инициативе издательством А. С. Суворина.
Вся эта работа была интересной, но «Отдел внутренних известий» иногда тяготил. Не потому, что было лень им заниматься, а потому, что в присылавшихся корреспонденциях с мест часто затрагивался вопрос о положении русской деревни, о земских нуждах, о сельскохозяйственной экономике, – а к занятию этим у меня не было склонности. Всю молодость свою посвятив математике, астрономии и философии, я как-то не успел ознакомиться с мелкой земской единицей, с чресполосицей, с Крестьянским банком и прочими мало интересовавшими меня вещами. Да и практически я русскую деревню совсем не знал. Детство свое провел на Кавказе, в студенческие годы жил исключительно в городах, летом к родственникам или к знакомым помещикам не ездил. И потому для меня русский крестьянин был каким-то таинственным незнакомцем, о котором справа и слева мне рассказывали много легенд, но которого я лично видел очень редко, главным образом тогда, когда он со своей телегой появлялся на городских улицах.
Подобное невежество, конечно, меня угнетало, но все же не приводило в отчаяние. Я утешал себя мыслью, что многие горожане-интеллигенты, не только правые, но даже левые, и даже народники, и даже социалисты-революционеры, были в таком же положении как я. И, действительно, едва ли многие петербургские и московские журналисты из левого лагеря, особенно из профессоров, писавшие статьи об ужасном положении крестьянства, знали это крестьянство лучше меня.
Да и когда нам, горожанам-интеллигентам, занятым своим повседневным делом, можно было ознакомиться с загадочным крестьянским племенем, которое на выставки футуристов не ходило, в славянофильских кружках не участвовало и на заседаниях религиозно-философского общества не присутствовало?
В общей массе своей знали мы мужичка главным образом по литературным типам: Хорь и Калиныч, Касьян с Красивой Мечи, Аким из «Власти тьмы», персонажи из «Деревни» Бунина. Затем стихотворения: «Что ты спишь, мужичок», «Ну, тащися, Сивка»…
А, вдобавок к этому, наблюдали мы деревню из вагона железной дороги. Мощный локомотив экспресса несет изПетербурга или из Москвы к далеким окраинам. Кругом – зимние снежные равнины. Или летние золотые поля. Вдали, там и сям – деревушки, солома на крышах, высокие журавли колодцев, серые стога сена. За один, два дня переезда, возле железнодорожного полотна смена почвы, на которой зиждется народное хозяйство: песок, чернозем, суглинок…
И, наконец, встречались мы, городские интеллигенты, с мужиками и бабами на дачах во время летнего отдыха. Покупали у них молоко, грибы, малину. Беседовали с ними, толковали о благодетельности интенсивной культуры, а они сочувственно кивали головами, вздыхали и говорили:
– Оно-то, должно быть, хорошо. Только не знаем мы, что это такое.
Разумеется, мне для ведения провинциального отдела нужно было поглубже ознакомиться с крестьянским вопросом. И я пользовался каждым случаем, когда ко мне в отдел заглядывали земские или административные деятели, приезжавшие в Петербург и по разным поводам посещавшие нашу редакцию.
Довольно часто, например, бывал у меня губернатор Кошуро-Масальский 142 142 Павел Николаевич Масальский-Кошуро (1860-1918) – государственный деятель. Вице-губернатор Тамбовской, Таврической и Харьковской губерний. Губернатор Амолинской области. Убит большевиками в Харькове.
, человек очень словоохотливый, хорошо знавший жизнь своего района. Но о крестьянах ему было говорить неинтересно. Начнешь его расспрашивать, а он уклонится в сторону и старается рассказать какую-нибудь веселую историю из административной практики.
– Вот, приехал я как-то раз в один из своих уездов, – повествует он, – и на вокзале, понятно, встречает меня исправник. Объехали мы с ним те учреждения, которые я хотел осмотреть, и когда официальная часть поездки окончилась, смущенно обращается он ко мне и говорит:
– Ваше превосходительство! Я и жена моя почтем за большую честь, если вы отобедаете у нас. Жена насчет всяких блюд великая мастерица. Мы были бы весьма счастливы…
– Благодарю вас, с удовольствием, – отвечаю я. – Только мне нужно сначала сделать кое-какие визиты. А в котором часу вы обедаете?
– Если вам удобно, в три часа. Это здесь обычное время. Когда дети приходят из гимназии.
– Хорошо, – соглашаюсь я. – Только простите, если немного задержусь. Надеюсь, вы мне дадите кар д-ер де грас? 143 143 Quart d’heure de grace – четверть часа, допускаемая для опоздания (фр.).
Кар д-ер де грас? – с некоторой тревогой переспросил он. – О, обязательно, ваше превосходительство! Постараюсь.
Отпустил я исправника, поехал делать визиты. И опоздал к обеду как раз на четверть часа, как предупреждал. Стол был заставлен закусками; из кухни доносился треск горящих дров, шел запах чего-то вкусного жареного, чего-то вкусного вареного. Обед оказался прекрасным. А когда, к концу обеда, подали кофе, и хозяйка вытащила из буфетного шкапа несколько бутылочек с ликером и поставила на стол, исправник сконфуженно обратился ко мне:
– Простите, ваше превосходительство, но, к сожалению, никак не мог удовлетворить ваше желание. Целый час бегал по всем магазинам, спрашивал ликер «кар д-ер де грас», но ни у кого нет. Бенедиктин есть, абрикотин есть, какао-шуа – тоже. А,вот, кар д-ер де грас не имеется. Необразованная у нас публика!
Вообще любопытных эпизодов и анекдотов рассказывали мне немало приезжавшие из провинции деятели. Но от этого, как и от дачной малины или грибков, знакомство с русской деревней расширялось у меня очень мало. Только перед самой войной стал я по присылавшимся корреспонденциям и по рассказам прибывавших в Петербург помещиков замечать, что положение в деревне становится более напряженным, что агитация народников и революционеров-социалистов приносит плоды. Очевидно, тургеневские наивные Неждановы стали теперь более опытными.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

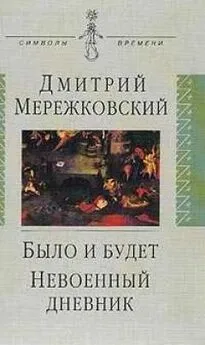

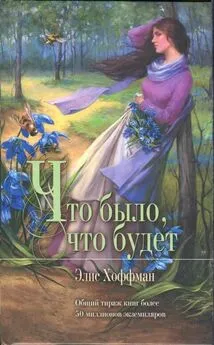
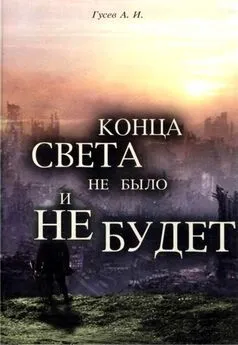
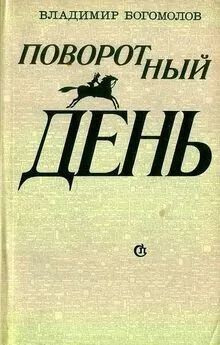


![Михаил Талалай - Цветы мертвых. Степные легенды [сборник litres]](/books/1085562/mihail-talalaj-cvety-mertvyh-stepnye-legendy-sbo.webp)