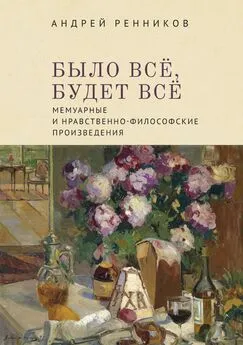Михаил Талалай - Было все, будет все. Мемуарные и нравственно-философские произведения
- Название:Было все, будет все. Мемуарные и нравственно-философские произведения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алетейя
- Год:2020
- ISBN:978-5-00165-153-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Талалай - Было все, будет все. Мемуарные и нравственно-философские произведения краткое содержание
Было все, будет все. Мемуарные и нравственно-философские произведения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Имею счастье видеть Михаила Алексеевича Суворина? – церемонно поклонившись, спросил посетитель.
– Нашли счастье, нечего сказать! – протягивая руку, угрюмо ответил Михаил Алексеевич. – Чем могу служить?
– Глубокоуважаемый Михаил Алексеевич! – вдохновенно начал тот, подняв голову и глядя на стену, стараясь в точности воспроизвести текст заранее заготовленной речи. – Разрешите от имени нашей скоплянской русской колонии, насчитывающей в настоящий момент триста двадцать четыре человека, в том числе тридцать пять детей, из коих пять грудных младенцев, – выразить вам глубочайшее уважение и благодарность за ваше беззаветное служение истерзанной родине, за ваши неутомимые призывы к борьбе за ее счастье, за честь, за светлое будущее! Голос вашего животворного печатного органа непрестанно будит нас, поддерживает любовь к дорогому отечеству, дает силы перенести лишения и трудности в изгнании, создает уверенность в том, что недолго продолжится это трагическое лихолетье, что скоро пробьет желанный час возвращения…
– Сгнием мы все тут! – сурово прервал оратора Михаил Алексеевич.
– И радостно зазвонят кремлевские колокола, – не слушая своего собеседника, продолжал председатель. – И ликующие толпы наполнят сияющие огнями храмы, и войдем мы все в родную страну под шелест развернутых священных знамен!
– А каких знамен? – сердито спросил Михаил Алексеевич. – Чьих знамен?
– Как чьих? – изумился председатель. – Наших.
Вдохновение его сразу исчезло. Лицо потускнело, приняло испуганное выражение.
– То то и оно: наших. Единственное наше знамя не на словах, а на деле, до конца донес только Врангель. А теперь – Монархическое Объединение Врангеля не признает. Милюковцы с кадетами не признают. Эсеры не признают. Меньшевики не признают. У каждого свое знамя. Вот вы с этими знаменами и являйтесь домой!
– Позвольте… Но…
– Знаю я эти но! – Михаил Алексеевич внимательно взглянул на гостя. Тот стоял перед ним, с вытянутым лицом, с жалкими растерянными глазами, со складками страданья у губ.
– Впрочем, – добавил Суворин, слегка улыбнувшись. – Пройдем ко мне и поговорим.
Они пробыли за перегородкой около получаса. Нам не было слышно, что происходило там, но разговор протекал, по-видимому, благополучно, мирно, без споров и повышения голоса. Затем калитка открылась и у входа в кабинет показались растроганные лица обоих собеседников.
– Вы не представляете, Михаил Алексеевич, – дрожащим от волнения голосом говорил председатель, – как я рад, что повидал вас! Вы вдохнули в меня силы для дальнейшего служения родным русским людям, вы вселили в меня твердую уверенность в нашей конечной победе. Горячее спасибо вам. Все ваши бодрые слова я в точности передам членам нашей колонии.
– И вам от всей души спасибо, мой милый, – ласково отвечал Суворин. – Ваши добрые пожелания дают мне и всем нам большое нравственное удовлетворение, указывают, что мы не напрасно работаем, что находим отклик в близких нам русских душах. Передайте от меня искренний привет вашей колонии и поцелуйте детей. Когда будете в Белграде, обязательно заходите ко мне, только попозже, когда у меня ничего не болит. Ну, до-свиданья, дорогой мой. Да хранит вас Господь!
У председателя от умиления выступили на глазах слезы. Окончательно смутившись, он пробормотал что-то невнятное, потряс Михаилу Алексеевичу руку, сделал присутствовавшим общий поклон и, нервно поправляя рукой белый галстух, с сияющим видом вышел из редакции.
Видя, что время идет, а надежды на скорое возвращение на родину мало, наши беженцы постепенно стали приходить к печальному заключению, что их пребывание в Сербии не пикник и даже не экскурсия с научною целью, a нечто более серьезное, и потому для спасения жизни стали придумывать себе новые профессии. Офицеры-кавалеристы поступили на службу в приграничную стражу; казачьи части принялись за прокладку сербских дорог; некоторые преподаватели и профессора получили места в средне-учебных заведениях и университетах; доктора занялись практикой. Но куда деться обшей массе? Как быть тому, кто не имеет специального образования, пригодного и в чужой стране?
Для этой последней категории выбор профессии часто зависел от случайных обстоятельств или даже от воспоминаний о своей молодости. Ведь русский человек, особенно интеллигентный, никогда до революции не занимался только одним каким-нибудь делом. Правовед учился композиции, профессор зоолог писал сказки, гоголевский губернатор любил вышивать, но только лесковский инженер прекрасно пел. И эта черта спасла в эмиграции многих. Вот – статский советник, который не позволял своему повару варить борщ с мозговой костью, и всегда варил его сам: ясно, что в эмиграции ему сам Бог велел открыть ресторан. Полицмейстер, которому приходилось лично присутствовать на больших пожарах и наблюдать над действиями пожарной команды, возвращался домой и для отдыха играл на скрипке серенаду Брага или ларго Генделя. Нет никакого сомнения, что в Белграде, тоже как на отдыхе, ему прямая дорога в кафану, где играет цыганский оркестр. А сколько у нас институток, которые играли на фортепиано турецкий марш Моцарта, или «Приглашение на вальс» Вебера? Почему им не сделаться для сербов опытными преподавательницами музыки?
Впрочем, при выборе этих принудительных новых профессий не всегда нужно было знать то дело, за которое берешься. Необходимо было только думать, что знаешь. Смелость города берет, a тем более отдельные места в этих городах, вроде места переводчика с неизвестного языка на неизвестный, или места директора консервной фабрики при умении только открывать консервы, а не приготовлять их.
Эта несокрушимая уверенность в себе и в той истине, что не боги горшки лепят, дала возможность большинству наших беженцев во всем мире довольно быстро найти заработок, начиная от лепки горшков и кончая созданием аппаратов телевизии или гигантских аэропланов. А, кроме того, очень помогла нам и наша врожденная культуртрегерская черта: давать чужим народам то, чего им не хватало до нашего появления на юге, на востоке и на западе. Как? У них нет пирожков? Дадим им пирожки. Что? Они не поют цыганских романсов? Заставим их петь «Очи черные» и «Две гитары за стеной»!
В общем, подавляющее большинство наших быстро нашло себе работу. Но, к сожалению, не все эмигранты сразу восприняли эту житейскую мудрость и при подыскании работы никак не хотели отложить в сторону и свой высокий чин и свое аристократическое происхождение. Так, например, один бывший дипломат, родом из Прибалтики, хорошо игравший на виолончели, получив предложение участвовать в ресторанном оркестре, гордо ответил:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

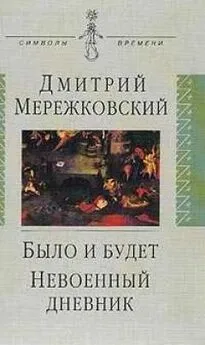

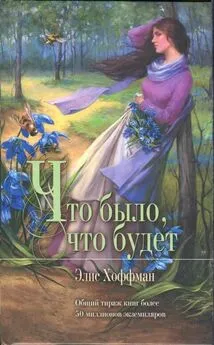
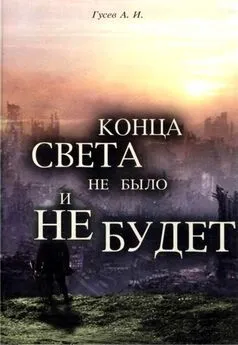
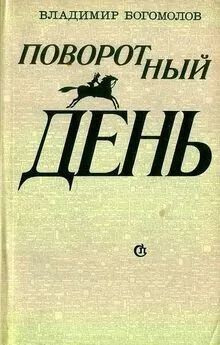


![Михаил Талалай - Цветы мертвых. Степные легенды [сборник litres]](/books/1085562/mihail-talalaj-cvety-mertvyh-stepnye-legendy-sbo.webp)