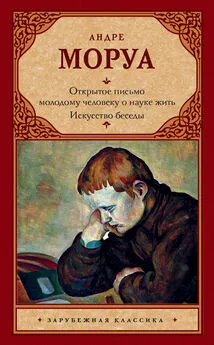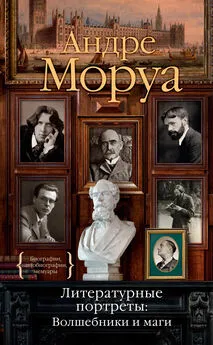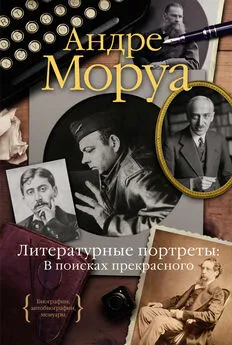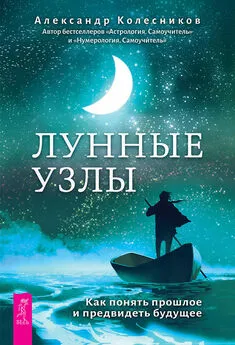Андре Моруа - Литературные портреты: Искусство предвидеть будущее
- Название:Литературные портреты: Искусство предвидеть будущее
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Аттикус
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-20255-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андре Моруа - Литературные портреты: Искусство предвидеть будущее краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Литературные портреты: Искусство предвидеть будущее - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Уже после смерти Жироду Ануй вспомнил и описал свои впечатления от постановки в 1928 году «Зигфрида» [273], где играл Жуве. Именно тогда восторженный юноша с небывалым доселе трепетом открыл секрет, разгадку которого так упорно искал и считал утерянной: секрет Мариво и Мюссе. «Дорогой Жироду, кто Вам теперь это скажет, – сам-то я так и не решился или не захотел говорить о том, какая странная смесь отчаяния и самой ликующей радости, гордыни и полнейшего смирения охватывала желторотого птенца, кубарем летевшего с галерки Театра Комедии на Елисейских Полях». Мне кажется, тогдашние эмоции Ануя напоминали мои собственные – испытанные в пору первого знакомства с рассказами Чехова, волнение тех минут, когда думаешь: «То, что я мечтаю сделать, но, наверное, в жизни сделать не смогу, кому-то удалось, и как же это прекрасно!»
Однако продолжу цитату из Ануя: «Вот тогда-то на авеню Монтеня все расцвело и затеплилась ни с чем не сравнимая весна… Проживи я сто лет, думаю, никогда мне больше не увидеть таких свечек на каштанах, не вдохнуть воздуха такой сладости и такой нежности. Несколько вечеров подряд я находился рядом с богами при свете фонарей, подсинивавших снизу листву, пребывал в атмосфере совершенства, которая внезапно окутала для меня тогда этот уголок Парижа… Из-за Вас эта улица и этот перекресток, отделенные невидимыми знаками от среды омерзительного квартала, навсегда стали для меня родными». Весьма характерно для Ануя: признав Жироду своим учителем, этот сдержанный и скрытный человек даже не попытался с ним познакомиться, а когда судьба свела их впервые в 1942 году, не решился высказать ему ни своего восхищения, ни своей нежности.
Тем не менее урок был дан и усвоен. Жироду помог Жану Аную понять, что в театре можно говорить «поэтическим, искусственным языком и он куда правдивее стенографической записи. Прежде я и не догадывался об этом». Да, раньше он читал Клоделя, который также открывал ему тайны театрального языка, только «Клодель был как большой и недоступный монумент, деревянная статуя на горной вершине, статуя святого, у которого ни о чем не спросишь». «Кроткий властитель» Жироду казался еще не таким далеким. Встреча Ануя с «Зигфридом» Жироду состоялась, как сказано, в 1928 году, в том же году он женился на актрисе Монель Валантен, а четыре года спустя в парижском театре «Творчество» состоялась премьера спектакля по его первой пьесе «Горностай».
Дебют показал такую зрелость совсем молодого драматурга (Аную было тогда всего двадцать два года), что это вызвало всеобщее удивление. Если не вдаваться в детали, можно сказать, что «Горностай» – пьеса, в которой роль «разгневанного юнца» по имени Франц могла бы принадлежать самому автору. «Каждый день из-за любой ерунды натыкаюсь на эту стену: я беден… Мы бедны, Филипп! И это для нас сочиняются нравоучительные книги. Мы должны быть мелочно бережливы и знать цену каждому грошу».
Франц, который все это произносит, влюблен в Моним – племянницу богатейшей вдовы, герцогини де Грана. Для того чтобы жениться на Моним, Францу хотелось бы разбогатеть – уж очень хорошо он знает, как отвратительна бедность. «Моя любовь слишком прекрасна, и я жду от своей любви слишком многого, чтобы рисковать, позволяя бедности испоганить ее». В ответ на заявление Моним о том, что с любимым она готова жить даже в нищете, он отвечает: «Ах, ты говоришь о нищете как богачка!.. А меня она преследует по пятам уже двадцать лет хуже злобной собаки. И я знаю, что сопротивляться ей не может никто и ничто, даже молодость». Ради Моним, ради того, чтобы их семья жила в достатке, он убивает герцогиню, состояние которой переходит к племяннице, ее единственной наследнице. Полиция подозревает Франца, но полусумасшедший слуга берет вину на себя. Франц мог бы спастись от правосудия, однако Моним, возмущенная тем, что он пошел на преступление, кричит ему, что он ей отвратителен: «Я ненавижу тебя за то, как ты поступил с этой несчастной любовью!» – и он сдается властям. Последняя реплика Моним: «Я люблю тебя!» – но уже слишком поздно…
В этой черной, беспросветно черной пьесе впервые была обозначена главная тема творчества Ануя того периода: проклятие бедности. Сразу вспоминается – увы, правдивая – история о мальчонке, который просто-таки умирает от желания покататься на карусели, но, когда отец дает ему именно на это два су, паренек не может расстаться с монетами, настолько изъела его бедность изнутри…
«Горностай», первая пьеса Ануя, мало чем напоминала творения Жироду и, хотя написана была довольно сильно, оказалась чересчур прямолинейной, лишенной поэтических озарений. Решающую роль в становлении драматурга сыграли встречи в 1937 году с двумя лучшими режиссерами того времени: Питоевым [274] Питоев Жорж (наст. имя Геворг Питоян; 1885–1939) – русский и французский актер, режиссер, художник, один из основателей уникального творческого объединения, в которое входило несколько французских театров.
, поставившим две его пьесы (сначала «Пассажира без багажа», а через год – «Дикарку»), и Барсаком [275] Барсак Андре (1909–1973) – режиссер и сценограф.
, который поставил «Бал воров». Именно благодаря этим встречам Ануй из литератора, пишущего пьесы, окончательно превратился в настоящего драматурга – то есть человека, посвященного в тайное тайных театра. Великие режиссеры нашего времени, можно сказать, произвели на свет великих драматургов. Без Жуве не состоялся бы Жироду как драматург, а Ануй на смерть Питоева откликнулся так: «Мы спокойно сидели на стульях друг против друга, только вдвоем, и Вы, говоря вполголоса, населяли свой маленький кабинет целым миром… Мы всегда будем помнить о Вас – о человеке, умевшем создать ночь в пустыне и лагерь кочевников с помощью черного задника и двух скрещенных брусьев, на который примостился комедиант в каком-то банном халате – ни дать ни взять араб».
После «Дикарки» еще совсем молодой Ануй был признан одним из лучших авторов современного театра, после чего пьесы его посыпались как из рога изобилия. Опубликовав их в сборнике под одной обложкой (и надо сказать, что испытание чтением его пьесы выдерживают прекрасно), сам драматург предлагает такую классификацию своих пьес: «черные» – это те, в которых отражалась пессимистическая точка зрения на жизнь; «розовые», в которых, несмотря на «черноту» людей, жизнь в финале принималась какой есть – порой с улыбкой, порой со смирением; «блестящие», где главенствовала фантазия; «колючие», пронизанные горечью, – бурлескные или, напротив, очень печальные; и, наконец, «костюмные» – исторические, с сюжетом, позволявшим говорить о вечных чувствах. Такими были «Жаворонок» (о Жанне д’Арк), «Бекет, или Честь Божья» (об архиепископе Кентерберийском Томасе Бекете), «Потасовка» (о превратностях судьбы Наполеона и скандалах, сопутствовавших его возвращению с острова Эльба, о Ватерлоо и второй Реставрации).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
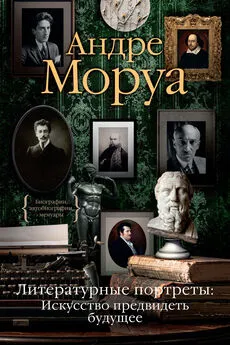

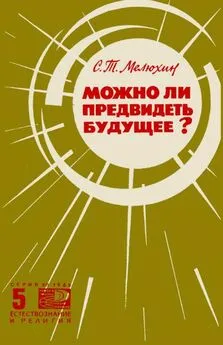
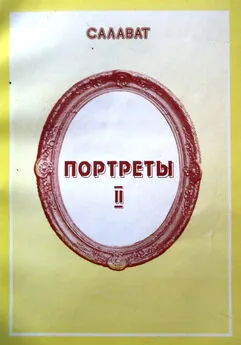
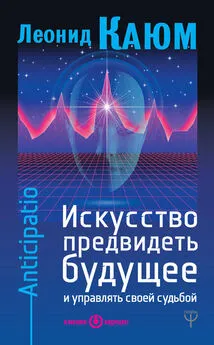
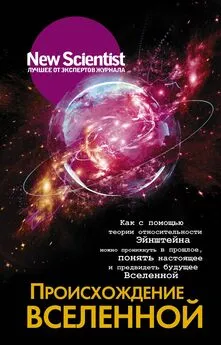
![Коллектив авторов - Происхождение Вселенной. Как с помощью теории относительности Эйнштейна можно проникнуть в прошлое, понять настоящее и предвидеть будущее Вселенной [litres]](/books/1082599/kollektiv-avtorov-proishozhdenie-vselennoj-kak-s-p.webp)