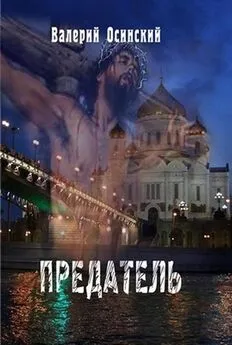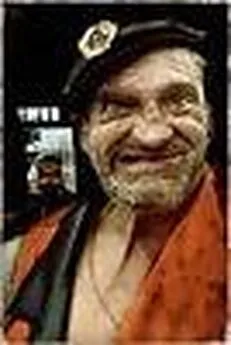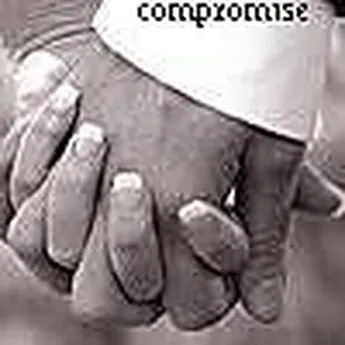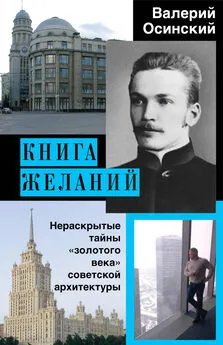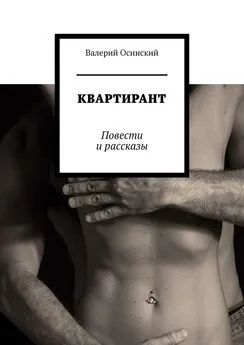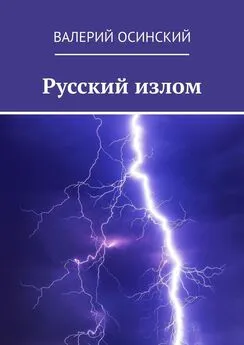Валерий Осинский - Чужой сын
- Название:Чужой сын
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Осинский - Чужой сын краткое содержание
Повесть "Чужой сын" впервые опубликована в журнале "Москва",№ 12, 2007
Чужой сын - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Надо возвращаться на рынок! — проговорила Ира, утирая слезы.
— Прости! — сказал я.
— За что? — Она тяжело вздохнула.
— За то, что не умею сделать тебя счастливой!
— Ты единственный, кто хотя бы сказал мне это.
16
Весной и летом мы с Дедом, паломники железнодорожных перегонов, совершили четырехмесячный вояж–командировку. Страна умирала. От Находки до Ужгорода, от Мурманска до Ташкента, как говорил поэт, «не знавшие ни чисел, ни имен», тащили все, что подвернется. На станции бывшего Мирного при луне громилы пастью огромных ножниц вскрывали консервные банки железных контейнеров и с муравьиным трудолюбием выковыривали из них тюки барахла. Под Ташкентом наши хмельные коллеги из вагона грузили в машину ворованный сахар и перекуривали с милицейскими…
Описания сухопутных странствий еще ждут своего Конецкого. Мы возили цитрусовые, обувь, битую птицу. Под Воронежем на именной станции зятя Чаушеску, Георгиу — Деж, — экие географические пересечения судеб! — три пьяных мента едва не задержали нас: сумрачная очередь за жилистой говядиной, которой мы торговали, вытянулась вдоль пути у нашей секции. Мы «катали салазки» в машинном отделении холодильника по специальным наращенным рельсам, — кто ездил, знает! — и таскали рижский ликер через лаз опломбированного вагона. Сливали тонны списанной солярки дельцам…
Словами Жванецкого это было время: «кто, на чем сидит…» Или — Чехова: «все чиновники читали Гоголя…»
Эшелоны русских беженцев из правоверного мира железнодорожные начальники загоняли в тупик, чтобы информация о вынужденной миграции по национальному признаку не попала в официальные новости. Люди неделями ждали отправки на товарных станциях. В стороне от вокзалов. Не скот — потерпят!
Весело взвизгнувший маневровый дизелек бодренько растолкал товарные вагоны, и перед нашими окнами через два пути открылись теплушки времен двух мировых войн: неотесанная поперечная балка у отодвинутой двери, умятая солома на полу. На керамзитовой насыпи играла детвора, словно стая воробьев купалась в пыли. Вдоль ржавого полотна парами и поодиночке степенно прогуливались взрослые — целая деревня на вечернем променаде. Мужчины сразу потянулись к нашей секции с ведрами за водой.
Я не был приспособлен к оседлой жизни: ездил по свету, зная, что вернусь в мир величиной с булавочный укол на географической карте, — на стене вместо обоев, — в салоне Деда. Скитальцам знакома меланхолия Чичиковых, Егорушек, Мартынов. Их удел — вечный подвиг, в смысле — движение, и созерцание бесконечной дороги. Однообразные, похожие одна на другую станции и полустанки! Сонмища людей за окном вагона. У всех них такая разная и такая похожая жизнь.
Отправляясь в командировку, я уже мечтал о возвращении домой, как о возвращении на необитаемый остров, и понимал — дома мне нет приюта. Я не знал, куда применить силы, — человек без талантов, но с большим самомнением. И не хотел признаться себе, что просто напросто тоскую без Иры! Хоть в дороге, хоть дома!
После командировки, не заезжая домой, я отправился в отпуск на море.
На краю поселка Сычавка под Одессой в ведомственном лагере бывшего завода отца, — здесь нашу семью издавна чтил бессменный заведующий, — я провел два месяца. Дюжина крытых жестью и безлюдных бунгало. Нескошенные газоны с колючей травой и головешки сгоревшей столовой придавали этому месту печальный вид. Бледная дымка над лазурным морем — тогда оно кажется выше берега у горизонта; ослепительное солнце, до того яркое в чистом небе, что его лучи стрелами протягиваются к золотистому отсвету на воде; черные спички рыбацких сетей поперек залива. Когда задувал северный ветер, всплывали прозрачные медузы, похожие на грязные куски желе в прибрежной тине, и ледяное море дышало, как живое. Косматые бурые тучи тащили мелкий бредень дождя над черными волнами в пенистых бурунах. А багровые зарницы беззвучно освещали глубокие овраги и оспины на воде. В такие дни с козырька над верандой шумели водопады. Море приподнималось, слепо шарило в темноте и тяжело падало ничком. Погожими вечерами я выходил на пляж смотреть на огни кораблей на рейде. Противоположный берег подкрадывался в ночи и замирал до утра, чтобы тихо растворится в рассветной дымке. Крошечные рачки карбункулами тлели на влажном песке. Злющие комары звенели и сопротивлялись ветру, который относил их в камыши.
На отдыхе я наблюдал «семейное счастье», без которого так «страдал».
Через перегородку поселились трое: он, она и трехлетний изверг. То и дело избалованный ребенок воплями оповещал мир о своих исключительных правах. Каждый миг двух взрослых людей подчинялся крошечному зверьку с примитивными рефлексами. На веревках поперек веранды неизменно сохли женские бюстгальтеры и загаженное детское белье — разноцветнофлажковый салют сухопутному мореману, продубленному степными сквозняками. Мосластый парень в джинсовых шортах и футболке, — отец! — иногда приходил ко мне покурить. Он виновато присаживался на ступеньки, поминутно вздыхал и думал. Его жена, плоскогрудая и с таким выражением на лице, словно она в голове решала теорему Ферма, присела с нами лишь раз, затянулась и вдруг навострилась, словно гончая, на звуки из комнаты, где спал ребенок. На пляж — днем, и в кафе или на аттракционы в поселке — вечером они конвоировали свое чадо. А ребенок не обращал на родителей никакого внимания, как не обращают внимания на вышколенных болванчиков в услужении. Мне кажется, за две недели эти двое ни разу не проскрипели в обоюдном ритме панцирной кроватью. И как–то ночью отчетливо, словно молодые лежали со мной в обнимку, услышал раздраженное ворчание женщины:
— Этот комар не даст нам спать! Убей его! — Неловкий охотник звонко хрястнул газетой по стене. И еще раз. — Что же ты делаешь, сволочь! Ты же разбудишь Андрюшу!
Это — «сволочь» настолько возмутило меня, что я избегал супругов.
Другие представители семейного мира явили свой вариант идиллии, золотой, платиновой или бриллиантовой (здесь я обыгрываю разновидности свадеб): с годами возраст — величина относительная. Московские профессора, заслуженные старички, прибыли на отдых по приглашению друзей одесситов. В тот год сбережения граждан уравняли цене тарелки борща в общественной столовой, и пансионаты для ученых стали дороги. Маленькая старушка личиком и фигурой напоминала шуструю цирковую мартышку в шляпке и платьице. Старушка выпустила замечательное жизнеописание Булгакова. Старичок, долговязый и сухопарый, в панаме с вислыми полями, походил на бледную поганку–переростка, и в России его имя — едва ли не баронского звучания Риткарт — было более или менее известно каждому более или менее грамотному человеку, а за границей оно, кажется, даже упоминалось с кафедры. Это был тип ученых тупиц, открытый Чеховым: работали супруги, судя по их рассказам, от утра до ночи, как ломовые кони, читали массу даже здесь на отдыхе, отлично помнили все прочитанное, но кругозор их был тесен и ограничен специальностью. На их ученых именах были темные пятна — в том смысле, что оба активно интересовались политикой. Женщина, разновидность тупиц — всезнайка, искала популярности в полемике со мной и неизменно спрашивала: «Почему за двадцать лет вы не выучили язык народа, среди которого живете?» Говорила она с вызовом и подергивала из стороны в сторону шеей, словно кобра перед броском. Я не без издевки поведал ей о приятеле: за пятнадцать лет жизни в Германии тот не познакомился близко ни с одним немцем, не прочел ни одной немецкой газеты или книги и никогда не чувствовал ни малейшего неудобства от незнания немецкого языка. (Женщина так и не поняла, что я говорил о Набокове!) Пояснял: в школе нас учили национальному языку всего сорок пять минут в неделю, а в детстве одной любознательности для изучения чужой культуры недостаточно. Потом, по моему убеждению, если литературные памятники, основные носители традиций языка, не стали эталоном мировой культуры, а лишь подражают уже написанному, нужно ли корпеть пусть над блистательными, но копиями с оригиналов, над туземными письменами?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: