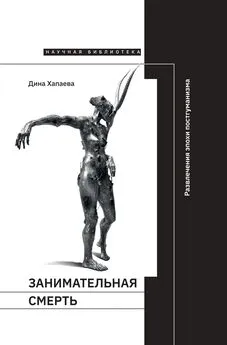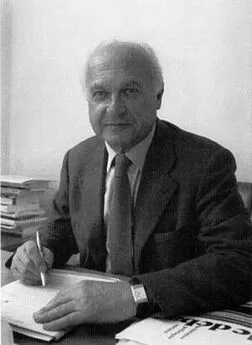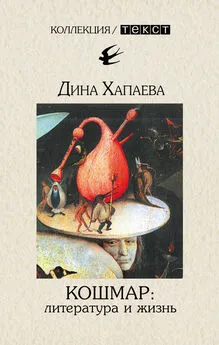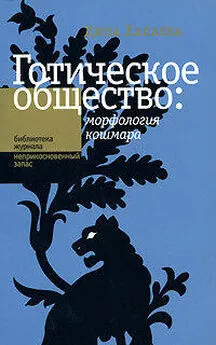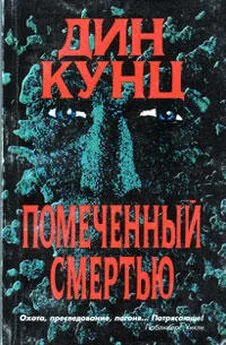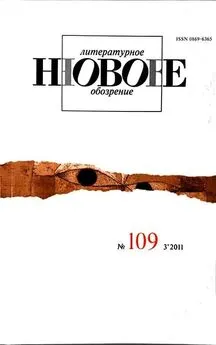Дина Хапаева - Занимательная смерть. Развлечения эпохи постгуманизма
- Название:Занимательная смерть. Развлечения эпохи постгуманизма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1355-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дина Хапаева - Занимательная смерть. Развлечения эпохи постгуманизма краткое содержание
Занимательная смерть. Развлечения эпохи постгуманизма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Смерть: исторический экскурс
Краткий исторический обзор позволит выяснить, являлись ли когда-либо в западной цивилизации изображения насильственной смерти развлечением, полностью лишенным всякого религиозного, поучительного и философского значения, модным товаром повседневного спроса. Для этого мы сопоставим те наиболее драматичные периоды истории Запада, для которых был характерен уровень смертности, несопоставимый с нашим временем. Для этого мы обратимся к исследованиям, в которых рассматриваются репрезентации смерти в период разгула эпидемий чумы, во время Гражданской войны в Америке и революции в России, а также остановимся на изображениях смерти в нацистской и советской идеологии. Каков же был масштаб коммерциализации насильственной смерти в те суровые времена?
Искусство умирать во время чумы
В течение XIV и XV веков Черная Смерть, Столетняя война, климатические изменения, известные как «Малое оледенение», и голод унесли колоссальное количество человеческих жизней. Всего за четыре года, с 1347 по 1351 год Черная смерть (комбинация разновидностей чумы) погубила, по различным оценкам, от 25 до 50 % населения Европы (эти статистические показатели варьируются по разным странам) [285] Gottfried R. S. The Black Death. New York: Simon & Schuster, 2010. P. xiii. См. также: Byrne J. P. The Black Death. Portsmouth: Greenwood Publishing Group, 2004. P. 126.
. Так, в 1348 году погибла примерно половина населения Флоренции [286] «…По оценкам ученых, чума унесла от 45 до 75 % всего населения Флоренции» (Ibid. P. 46).
. «И никто не желал заниматься погребением умерших — ни за деньги, ни из дружеских чувств» — таково известное свидетельство Анжело ди Тура, жителя Сиены, передающее атмосферу того времени. А ведь это была лишь одна из нескольких пандемий, периодически вспыхивавших вплоть до XVIII века. Последняя мощная вспышка случилась в Марселе в 1720 году — чума унесла от 50 до 60 тысяч человеческих жизней [287] Bertran J. - B . Relation historique de la peste de Marseille, en 1720. Cologne: Pierre Marteau, 1723. P. 407. См. также: Histoire de Marseille en treize événements / Ed. Ph. Joutard. Marseille: Jeanne Laffitte, 1988.
. В России начиная с XII века тоже периодически вспыхивала бубонная чума. В 1770–1772 годах эпидемия носила особо катастрофический характер, Москва практически опустела: только в сентябре 1771 года погибло 21 000 человек [288] Дёрбек Ф. А. История чумных эпидемий в России с основания государства до настоящего времени. СПб., 1905; Васильев К. Г., Сегал А. Е. История эпидемий в России. М.: Гос. изд-во мед. лит., 1960.
. Историки склонны сопоставлять последствия чумы в Европе с кровавой бойней Первой мировой войны [289] Thompson J. W. The Plague and World War: Parallels and Comparisons // The Black Death: A Turning Point in History? / Ed. W. M. Bowsky. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1971.
.
Даже помимо чумы и прочих «всадников апокалипсиса», видеть смерть и мертвецов было повседневностью в Средние века. Пандемии были лишь одной из причин массовой гибели европейцев до эпохи Нового времени. Как выразился Эмманюэль Леруа Ладюри, историк школы Анналов, «то был мальтузианский мир — прирост населения превосходил тогдашние экономические возможности» [290] Le Roy Ladurie E. Les paysans de Languedoc. Paris: S. E. V. P. E. N., 1966.
. Непрерывно велись войны. Из-за недостаточного уровня развития сельского хозяйства периодически случались неурожаи и, как следствие, голод. Примитивная медицина, хроническое недоедание и техническая отсталость приводили к тому, что даже неопасное заболевание могло закончиться летальным исходом. С раннего детства человек становился непосредственным свидетелем того, как умирают другие, понимая при этом, что шансов уцелеть у него, мягко говоря, немного. «В период позднего Средневековья человек ясно осознавал, что речь идет лишь об отсрочке смертного приговора, и, возможно, весьма непродолжительной. Смерть все время была где-то рядом, она перечеркивала все амбиции и отравляла желания» — так описывает эту эпоху Филипп Арьес [291] Ariès Ph . The Hour of Our Death. P. 45.
.
Арьес и Йохан Хейзинга убедительно демонстрируют, что в те мрачные времена смерть не только происходила у всех на виду, но и была важным социальным событием. Существовала концепция так называемой «хорошей смерти» — то есть у себя дома, в окружении родных и близких. Ритуал смерти был четко прописан и являлся столь же важным, как и другие обряды. По средневековым меркам «Ars Moriendi» (руководство по искусству умирать) было бестселлером в течение двух столетий. По мнению Роже Шартье, в XV и XVI веках этот труд был столь же популярен, как «Le roman de la rose» («Роман Розы»), один из самых популярных романов Средневековья, и «De regimine principum» («О правлении государей» Эгидия Римского), влиятельнейший политический трактат. Успех «Ars Moriendi» был связан не только с содержанием — набором наставлений на тему «хорошая смерть христианина», но и с большим впечатлением, которое производили 11 иллюстраций, изображавших борьбу ангелов и дьяволов за человеческую душу. Согласно Шартье, в те далекие и тревожные времена эти гравюры баварского происхождения были очень распространены в Европе [292] Chartier R . Les arts de mourir, 1450–1600 // Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 1976. 31, iss. 1. P. 51, 52.
.
Другой причиной ощущения постоянного присутствия смерти была система наказаний. Принято было считать, что зрелище публичной казни имеет и развлекательный, и поучительный характер. Виселицы с болтающимися повешенными были привычной чертой как городского, так и сельского пейзажа.
В течение нескольких столетий во Франции (вплоть до Великой французской революции) повешение было наиболее распространенным видом смертной казни. В каждом городе и почти в каждой деревне имелась постоянно установленная виселица. По сложившейся традиции, казненного не вынимали из петли; мертвое тело продолжало висеть вплоть до полного разложения. Как правило, виселицы очень редко пустовали <���…> Конструкция их варьировалась по усмотрению местных властей; устанавливали виселицы непременно на возвышении, рядом с оживленными дорогами [293] Lacroix P. Manners, Custom and Dress During the Middle Ages and During the Renaissance Period (1878). New York: Kessinger Publishing, 2010. О публичной казни как обряде ингумации см.: Mathieu V. Les lieux d’exécution comme espaces d’inhumation. Traitement et devenir du cadavre des criminels (xiie. — xive. siècle) // Revue historique. 2014. 2, no. 670. P. 295–312.
.
«Отвратительный и грозный средневековый опыт смерти», как назвал его Хейзинга, нашел свое отражение в литературе, поэзии, живописи, философских трактатах. В период позднего Средневековья «смерть и некромания стали его основным организующим принципом, его центральной аллегорией» [294] Binski P. Medieval Death: Rituals and Representation. Ithaca: Cornell University Press, 1996. P. 152. «The deceased [are shown] in the state of perfection that they would attain at the Resurrection» (P. 94). Об изображении смерти в средневековой культуре см. также: Clark J. M. The Dance of Death in the Middle Ages and Renaissance. Glasgow: Jackson, 1950; Patrick J. Geary, Living with the Dead in the Middle Ages. Ithaca: Cornell University Press, 1994.
. «Религия смерти», по словам Альберто Тенети, правила средневековой Европой. Смерть и процесс разложения изображались во всех подробностях. Еще одним зловещим символом были оссуарии при церквях в период разгула Черной смерти. В своем классическом труде, посвященном культуре Средневековья, Хейзинга высказывает следующую мысль: «Появление изображений трупов и мумий в иконографии и живописи стало сигналом глубокого кризиса, упадка культуры Средних веков» [295] Huizinga J. The Autumn of the Middle Ages. Chicago: University of Chicago Press, 1996. P. 124.
. Арьес, со своей стороны, считал, что изображения разлагающихся тел ассоциировались с беспомощностью человека, а также с идеей извечной греховности. Представление, что тело святого неподвластно разложению, сохранялось в православии вплоть до конца XIX века — достаточно вспомнить описание похорон старца Зосимы в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».
Интервал:
Закладка: