Юрий Когинов - Недаром вышел рано. Повесть об Игнатии Фокине
- Название:Недаром вышел рано. Повесть об Игнатии Фокине
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Политиздат
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-250-00066-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Когинов - Недаром вышел рано. Повесть об Игнатии Фокине краткое содержание
В новом произведении «Недаром вышел рано» писатель исследует судьбу яркую, но рано оборвавшуюся и потому малоизвестную. За двадцать девять лет жизни Игнатий Фокин успел юношей принять участие в событиях первой русской революции, в годы мировой войны стать одним из членов Петербургского комитета и Русского бюро ЦК большевистской партии, в период Октября как член Московского областного бюро РСДРП (б) возглавить пролетариат Брянского промышленного района.
Деятельность героя повести была связана с Л. Бубновым и В. Куйбышевым, Л. Джапаридзе и Н. Щорсом, среди его учеников и соратников — будущий заместитель наркома обороны Я. Алкснис и будущий партизанский командир и писатель Герой Советского Союза Д. Медведев.
Недаром вышел рано. Повесть об Игнатии Фокине - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Случится же такое — все знакомые реки перебрал, все города вспомнил, куда заносила судьба, а самый первый свой город и первую свою реку из ума упустил!
Да ведь на Киев похожа картина, что открывается сейчас с палубы «Магдалины»! И купола, сверкающие солнцем, и целые улицы домов и домишек, так же в окружении садов, карабкались там вверх по круче и резво устремлялись вниз, к Днепру, по которому вот так же сновали пароходы, как сейчас и здесь, в Брянске.
«Мария Магдалина», утробно постукивая машиной, лениво пересекала Десну. Прямо по курсу темнели низенькие ветхие лачужки, которыми начинался город, его, так сказать, самый нижний этаж, который так похож на киевский Подол.
В одной из лачужек в Киеве, на Подоле, двадцать семь лет назад и родился Игнат.
Как не раз вспоминал отец, Иван Васильевич, оказался он в ту пору в Киеве в поисках воли. За двадцать ему только перевалило — отслужил солдатчину, побывал с воинскими частями в Варшаве, Одессе, Кременчуге, в железнодорожной бригаде освоил специальность машиниста. И заграницу повидал — отрядили молодого механика в Кенигсберг для приемки заказанных там семи пароходов для какой-то русско-иноземной фирмы,,
Когда вернулся в родное Людиново, на заводе промышленника Мальцева нашлось место машиниста узкоколейки. Был уже женат. Первенец Василий появился. Но больно несладкая оказалась жизнь в кабале заводчика-генерала, и Иван Фокин, забрав жену Антонину и сына, махнул в сытный город Киев. Не сомневался: с его специальностью наймется в любую пароходную компанию и станет вольным казаком, иначе — сам себе хозяином.
Про вольного казака, верно, пришло из песен, что спевали здесь, на крутых берегах Днепра, парубки да дивчины. «Воля», она и тут оказалась с овчинку. На службу с грехом пополам, правда, устроился, хотя надо было гонять пароходы по реке неделю в один и неделю в другой конец. Значит, жить на два стола. А это разор для семьи. Другая трудность — жилье. Не так уж просто оказалось его снять. Хоть расставайся с мечтой и вертайся назад, в мальцевские силки.
Совсем уж отчаялся, да встретил людиновского земляка — Игнатия Даниловича Литвинова. У Мальцева ведь как было — сами его производства в Орловской и Калужской губерниях, а разные службы — приказчики, заготовители, торговые люди — почти по всей России. Литвинов служил в Киеве мальцевским экспедитором, снимал на Подоле домишко, принадлежавший купцу Самохвалову. И предложил он в этом домишке Ивану Фокину комнатенку и платы никакой не взял.
В том домишке и появился на свет Игнат 19 декабря 1889 года.
Зимним днем, под самое рождество, собрались Иван и Антонина крестить своего второго сына. Ничего заранее не говоря своим квартирантам, Литвиновы устроили торжество. Зазвал Игнатий Данилович в свою светелку, а там уже накрыт стол, возле которого хлопочет хозяйка:
— Садитесь, дорогие, это для вас и вашего новорожденного!..
Никогда не бражничали хозяин и квартирант, а тут, знамо дело, опрокинули по стопке. И тогда Литвинов сказал:
— Старшего ты, Иван, назвал Василием, в честь своего отца, мальцевского мастерового. Це дило, це ладно. К примеру, уходит человек, а прозвище его должно оставаться. Так вот я и подумал: детей у меня нема, значит, и внуков не будет. А прозвище свое хотелось оставить… Вот и просьба к тебе и Антонине — нареките своего новорожденного Игнатием, в мою, так сказать, честь…
Выпрямился за столом Иван — статный, плечи в стороны, грудь что наковальня, расправил пшеничные усы:
— Сколько я ни плавал но Днепру, был на германской реке Прегель — сплошь шлепают пароходы, то названные в честь императоров, то в честь каких-нибудь святых. И ни одного, чтобы по имени простого человека. А города возьми. То Петербург, то в память императриц Екатерины, Елизаветы… Ну, ладно, пароходы и города — то железо да камни… А мы с тобой свое, рабочее имя человеку дадим. Пусть прозывается сын в честь доброго друга — Игнатием…
Детские впечатления самые яркие. Достаточно чуть прикрыть глаза, и тут же в памяти всплывет откос на Подоле, по которому вниз, к Днепру, бежит он, четырехлетний.
Бежит ходко, самозабвенно и слышит у себя за спиной:
— Игнаш, не гони как оглашенный. Пароход вон на середине реки. Еще сколько ему к берегу подгребать да швартоваться.
Это Васек, старший брат. Он уже взрослый — зимой начал ходить в школу. Потому старается держаться солидно, идет увалисто, не торопясь, и его, Игнату, старается урезонить. Но у причала не выдерживает сам, вовсю начинает перебирать ногами, увязая босыми ступнями в приднепровском песке.
А он, Игнаша, уже в широко распахнутых объятиях отца:
— Папка пришел!
Пшеничные усы щекочут белую, нежную мальчишечью кожу, от отца вкусно пахнет речной водой и железом.
Но еще вкуснее — Игнаша знает — будет пахнуть хлеб, который сейчас достанет из своего походного, кованого сундучка папка, разломит корку пополам и даст сыновьям. Игнашке, как водится, побольше — для роста.
Но он набросится на отцовский гостинец не сразу. Сначала проведет корочкой по лицу, вдохнет душистые запахи. Он знает, что пахнет хлеб холодной речной водой, такой студеной, какая, говорят, бывает лишь под дном парохода, глубоко-глубоко. И еще пахнет он какими-то чудными, растущими только у берегов травами и, конечно, горячей, так что нельзя даже на миг прикоснуться к ней, урчащей пароходной машиной…
Должно быть, тем летом, когда четырехлетний Игнаша бежал на пристань встречать отца, и переселились они всей семьей на суденышко, где отец служил машинистом.
До этого Иван Васильевич иногда брал в рейсы Васятку — как-никак помощник. Но в то лето сказал жене:
— Игнаша подрос. Давай-ка, мать, переберемся из лачуги до осени на пароход. Хоть и на воде, а все жилье попросторней — все берега твои! Да и ребята будут под отцовским приглядом.
Какой мир открылся Игнату! Он облазил весь пароход, не раз обежал палубу, устроил в кубрике на свой лад собственное место. А когда причаливали к берегу, стремглав летел вверх по тяжелому песку, забирался в заросли и, растянувшись там на траве, глядел в далекое и бездонное небо.
Но самым увлекательным было — помогать отцу.
Вот он, отец, сильный, все умеющий. И такой же могучий, рассекающий встречные волны пароход. Но вдруг зашуршит, закрежещет что-то под днищем и, заглушив машину, выходит из будки, утирая пот со лба, папка:
— Всё, Васятка, сели на мель. Теперь на тебя надежда — маячь!
А Васятке это и надо. Сбросил порты, рубаху — и бултых в воду! У борта она по грудь, но мальчишка идет дальше.
— Батя, здеся уже по колено.
— Иди еще!
— А здеся по брюхо.
— Стой там, подавай голос, маячь!
Малый, еще малый ход по замеренным Васей глубинам, и снимается пароходик с мели. А Васятка подает голос, наставляет отца:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
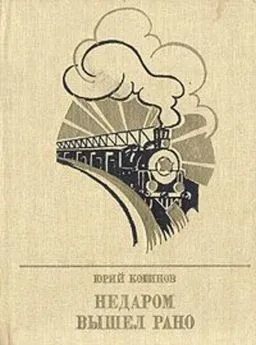

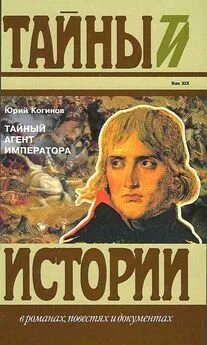
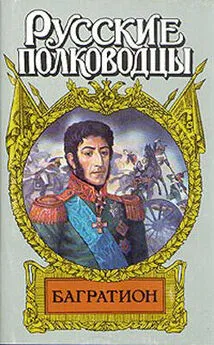
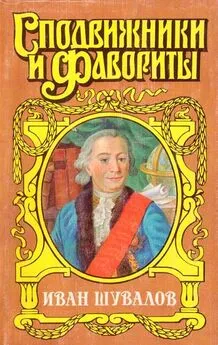
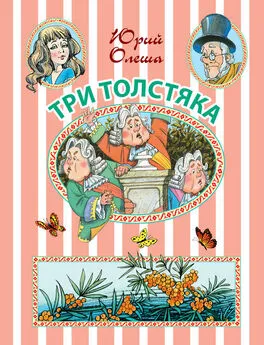
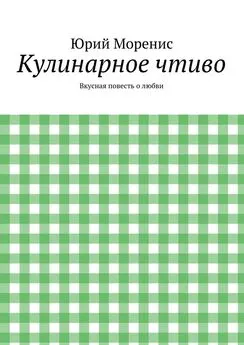
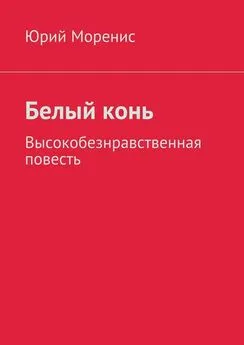
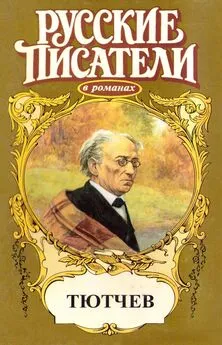
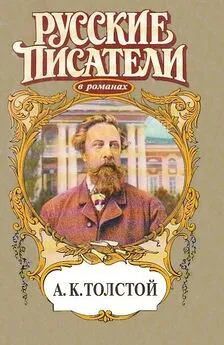
![Юрий Дрыгин - Десант в безвестность [Документальная повесть]](/books/1146523/yurij-drygin-desant-v-bezvestnost-dokumentalnaya.webp)