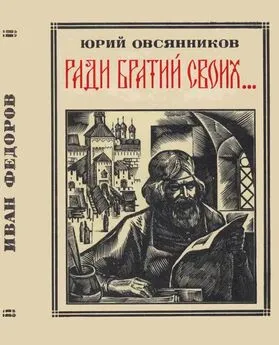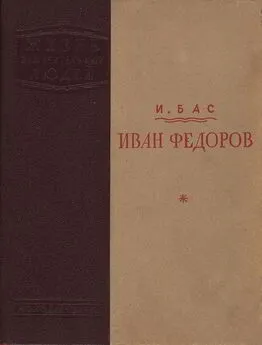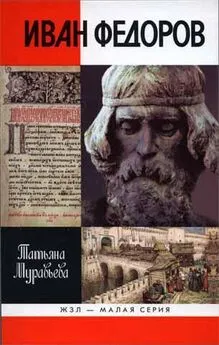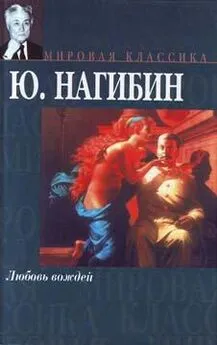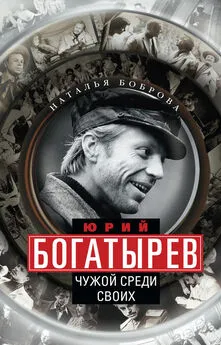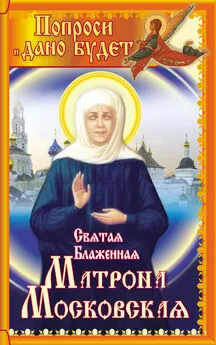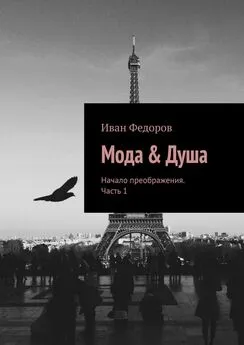Юрий Овсянников - Ради братий своих… (Иван Федоров)
- Название:Ради братий своих… (Иван Федоров)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1975
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Овсянников - Ради братий своих… (Иван Федоров) краткое содержание
Ради братий своих… (Иван Федоров) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Теперь можно было вздохнуть облегченно. Можно жить вдали от родины, но жить надо ее заботами, писать и думать надо на ее языке.
Пахарь или сеятель?
 арким июньским днем 1572 года по малоезженой лесной дороге на Волынь тащилась высоко нагруженная телега. Рядом с ней мерно отмеривали версты немолодой мужчина и двое подростков. На глубоких ухабах, когда лошадь останавливалась, тяжело поводя мокрыми боками, путники дружно упирались плечами в задок телеги и с криками, с уханьем выталкивали ее из рытвины. Иногда усталые путники ложились на густую траву и молча лежали, переводя дыхание, а отдохнув, снова двигались дальше. Это печатник Иван Федоров вместе с сыном и подмастерьем Гринем держали путь из Заблудова во Львов.
арким июньским днем 1572 года по малоезженой лесной дороге на Волынь тащилась высоко нагруженная телега. Рядом с ней мерно отмеривали версты немолодой мужчина и двое подростков. На глубоких ухабах, когда лошадь останавливалась, тяжело поводя мокрыми боками, путники дружно упирались плечами в задок телеги и с криками, с уханьем выталкивали ее из рытвины. Иногда усталые путники ложились на густую траву и молча лежали, переводя дыхание, а отдохнув, снова двигались дальше. Это печатник Иван Федоров вместе с сыном и подмастерьем Гринем держали путь из Заблудова во Львов.
Ехали лесными дорогами, подальше от городов и селений. Остерегались встреч. Много бродило по Польше лихих людей, способных обидеть беззащитных путников. Да еще прошел слух, что пришла опять «черная смерть». Так прозвали в Европе чуму.
Как ни старались путники избегать селений, всё же приходилось останавливаться в деревнях для пополнения запасов съестного. После одной из таких остановок Ваня к вечеру стал жаловаться на сильную боль в затылке и слабость во всем теле, Федоров ладонью тронул его лоб. У парня был жар. «Вот оно. Началось… Не уберег…» — подумал мастер.
Добравшись до брошенной сторожки, Федоров велел распрягать. Гриню строго-настрого приказал к сторожке не подходить, ночевать в сарае, а сейчас срочно помыться и переодеться во все чистое.
Сам же, уложив Ванюшу, обернул его мокрой простыней и начал варить настой из трав, подаренных ему старой крестьянкой в Заблудове.
К утру лучше не стало. Иван не отходил от сына. Тот метался, бредил, порой затихал в тяжелом забытьи. В эти минуты Федоров весь отдавался во власть тяжелых раздумий о своей вине перед сыном — недосмотрел; о своей жизни беспокойной и неустроенной.
Может, ради сына, его здоровья и покоя надобно было стать простым землепашцем и дожить тихо, спокойно до конца дней своих? Была такая возможность… Сам гетман предлагал ему.
Стоял такой же солнечный день, когда его позвали к Ходкевичу в замок. Старик лежал в опочивальне на большой кровати под тяжелым балдахином, укрытый зеленым атласным одеялом. Не открывая глаз, тихо произнес:
— Садись, Иван Федоров…
И снова наступила тишина в комнате. Только жужжала в портьерах большая муха…
— Недужится мне, мастер… Голова болеть стала, да и силы былой уж нет. Задумали мы с тобой дело великое, а успели сделать немного. То ли поздно начали, то ли бог не сподобил, да не нужны теперь ни в Литве, ни в Польше печатные книги на русском языке… Поздно…
Старик с усилием приподнялся. Длинные седые волосы его спутались. Бледное лицо, изборожденное морщинами, было страшно.
— Нет больше и не будет Великого княжества литовского. И моя жизнь, моя слава к концу подошла…
Он опять откинулся на подушки и закрыл глаза. Снова было слышно, как бьется назойливая муха.
— Послушай моего совета, мастер. Жестокие времена наступают. Пережить их в тишине и покое надо. За работу твою, за великие знания и мастерство дарю я тебе деревушку с крестьянами. Пусть покойна и сытна будет твоя старость. Спасибо еще раз тебе за службу, Иван Москвитин, и прими мой дар…
Гетман вытащил из-под подушки свиток, скрепленный большой печатью. На красном воске четко выделялся герб гетмана: щит, разделенный на четыре поля, а в щите — лев над крепостной стеной, всадник с обнаженной саблей, стрела и яблоки. Так бывший московский диакон, первый русский типограф неожиданно был объявлен землевладельцем и помещиком.
Объявить-то объявили, а стать им Федоров не сумел. Почти год прожил печатник в собственной деревушке. И пожалуй, не было для него труднее года, чем этот. Работать на земле самому навыка не было, а если и пытался, то вызывал смех у крестьян — хозяин сам за сохой идет. Вот и шел по деревне слушок: «Видать, хозяин-то от книг в уме повредился. Человек он добрый, хороший, но того…»
Ко всем переживаниям прибавлялись еще тяжкие раздумья — имеет ли он, владеющий редким искусством печатания книг, право отказаться от своего призвания? Не зарывает ли данный ему талант в землю и тем обрекает его на бесплодие? И однажды решился.
— Начинай собираться, — объявил он сыну. — Не хлеб сеять, а семена духовные — мой долг. Поедем во Львов. Город большой и знатный. Православных в нем много. Откроем там печатню.
Наутро, прознав от Ванюши об отъезде мастера, прибежал Гринь. Уж он упрашивал, уж уговаривал мастера взять его с собой… Да и Ванюшка просил за друга. В конце концов Федоров согласился — паренек смышленый, дело любит, а лишний помощник никогда не помешает. От счастья Гринь даже прошелся на руках.
Впереди дорога, новые города, приключения…
Трое суток боролся Ваня со смертью. Трое суток тяжкое забытье перемежалось бредом. Трое суток, не смыкая глаз, провел Федоров у постели сына. На четвертые парнишка открыл глаза и чуть слышно попросил:
— Пи-ить!..
Еще неделю пришлось жить в сторожке. Слишком слаб и беспомощен был Ванюша. А потом, поскидав кое-какую рухлядишку с телеги, уложили парня сверху на свежескошенную траву и снова двинулись в путь.

Отъезд Ивана Федорова только затормозил, но не прервал развитие книгопечатания в России. Ведь в Москве еще оставались Андроник Невежа и Никифор Тарасиев. По велению Ивана Грозного в 1568 году они напечатали в московской типографии новую книгу — Псалтырь.
В 1571 году после очередного страшного пожара, уничтожившего добрую половину Москвы, в том числе, видимо, и Печатный двор, царь Иван IV перевел типографию в свою резиденцию — Александровскую слободу. Здесь Невежа и Тарасиев напечатали еще одно издание Псалтыри. Существуют предположения, что типография в слободе выпустила несколько светских книг и документов официального содержания. К сожалению, они до сих пор еще не обнаружены. Может, в будущем какой-нибудь пытливый исследователь обнаружит их в далекой северной деревне или среди архивных связок.
Вернули типографию в Москву только после смерти Ивана IV по указу его сына Федора Ивановича в 1587 году. И сразу же Невежа начал печатание Триоди постной, которую закончил в 1589 году.
Андроник Невежа трудился вплоть до 1602 года, отпечатав за это время еще девять книг. Все эти книги отпечатаны федоровским шрифтом, а заставки и инициалы подражают украшениям «Апостола». После смерти отца во главе московской печатни встал Иван Невежин, работавший до 1611 года и успевший отпечатать еще пять книг. В этот год польские интервенты снова уничтожили типографию. «Печатный двор и вся штанба того печатного дела, — рассказывает современник, — от тех врагов и супостатов разорился и огнем пожжено бысть и погибне до конца и не остася ничего же такового орудия, хитрии же на то людие мали осташася и во ины град отбегуша».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: