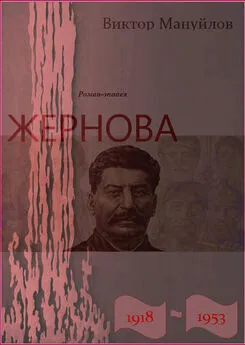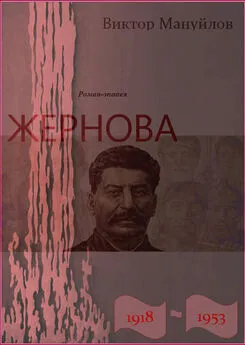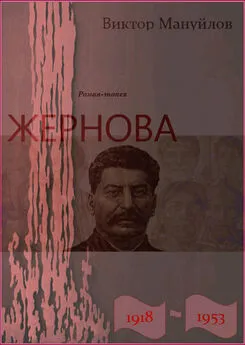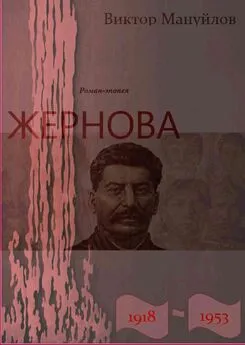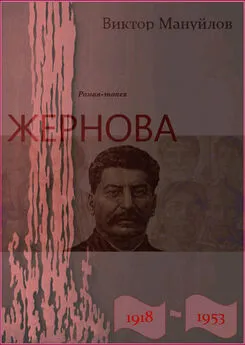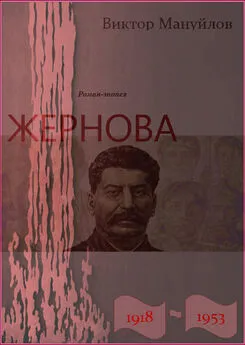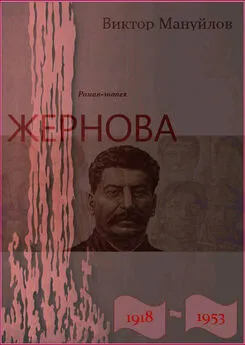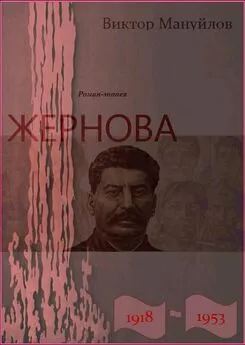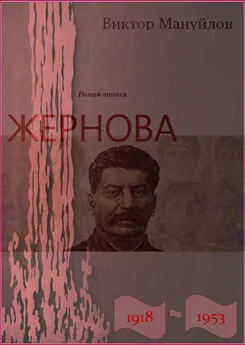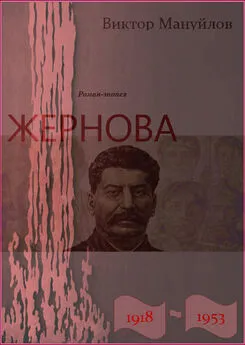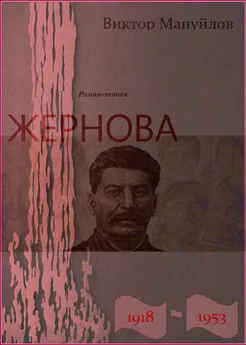Виктор Мануйлов - Жернова. 1918–1953
- Название:Жернова. 1918–1953
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Мануйлов - Жернова. 1918–1953 краткое содержание
Жернова. 1918–1953 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Да и где этот старичок и как он может дотянуться до товарища Зиновьева через железные заслоны ВЧК-ОГПУ?
Времена уже не те, и старички-фанатики стали другими. Не до Зиновьева им, совсем другие заботы должны их теперь тревожить. Тот же Гитлер — прав Каменев — для евреев пострашнее Сталина, и если ему удастся захватить в Германии власть, если он все силы немецкого народа сумеет направить на завоевание жизненного пространства на востоке, то евреям ни в России, ни в Европе места не останется.
Зиновьев попытался мысленно проследить весь путь Сталина в революцию и к вершине власти, чтобы понять, в чем его сила, а в чем слабость. В своем воображении он вновь оказался в туманном Лондоне, на пятом съезде РСДРП, попытался припомнить Кобу, который присутствовал там же, но как ни напрягал свою память, вспомнить тогдашнего Сталина ему не удалось. Быть может, оттого, что слишком хорошо запомнил самого себя.
Зато на лондонском съезде он познакомился с Каменевым, делегатом от Тифлиса, и быстро нашел с ним общий язык. Иногда Зиновьеву кажется, что и сам Каменев когда-то встречался с тем же старичком, получил от него те же инструкции, и только поэтому они, Зиновьев и Каменев, почти никогда не расходились во мнениях (разве что в мелочах) и всегда действовали заодно…
Уже сквозь дрему вспомнился Зиновьеву Петроград восемнадцатого года, безраздельная власть над полумертвым городом, над всей этой притаившейся русской спесивой сволочью, когда-то составлявшей цвет петербургского общества, захватывающие дни и ночи красного террора.
Да, ощущение было такое, какое и предсказывал когда-то хлюпающий слюнями старикашка: Зиновьев стоял на вершине высокой горы, куда не доносились вопли и стоны повергаемых врагов. Совесть Зиновьева была чиста, ночные кошмары его не мучили. И будто в яви слышал он тарахтенье проносящихся по притихшим ночным улицам северной столицы грузовиков, набитых матросами, рабочими и латышскими стрелками, в его руках вновь зашелестели длинные проскрипционные списки с фамилиями известных русских купцов, адвокатов, заводчиков, банкиров, князей, баронов, графов, царских генералов, гвардейских офицеров, чиновников всех рангов и мастей, ученых, литераторов — списки, которые ему давали на подпись. Правда, в списках иногда мелькали и еврейские фамилии, но без этого никак было нельзя: для иных евреев махровый монархист из русских генералов был во всех отношениях ближе революционера Зиновьева.
Зиновьева не заметил, как уснул. Его жирная грудь мерно вздымалась и опускалась, из полуоткрытого рта вместе с тягучей слюной вытекал равномерный храп, а все существо его помнило то удовлетворение, с каким он подписывал эти списки, помнило усталые, но торжествующие глаза своих соратников: для него и для них это был акт возмездия за разгромленную когда-то иудейскую Хазарию и первую еврейскую общину в Киеве, за костры инквизиции в Европе, за бегство на восток, за черту оседлости и всяческие ограничения, за еврейские погромы. Это был великий праздник Пурим, которого евреи России ждали долгие столетия.
Хорошее было время, черт побери! Хороший получился праздник. Увы, все праздники слишком коротки.
Глава 13
Еще несколько лет пролетели в трудах и заботах, но мало что изменилось в жизни Гаврилы Мануйловича: ни одна из его задумок, связанных с мельницей, так и не осуществилась. Иногда Гавриле кажется, что мельницу в свое владение он получил не восемь лет назад, а где-то на прошлой неделе, лишь недавно перебрался сюда со своим семейством, отпраздновал новоселье и смолол первое зерно, — так все это живо в его памяти, так крепко оно там угнездилось. И будто все у него впереди: и непочатый край работы, и достаток, и даже богатство. Но ведь были же эти годы работы на мельнице, годы крушения и возрождения надежд! Были.
Глянуть хотя бы на детей: вытянулись, отца с матерью догоняют и самые младшие, о старших и говорить нечего, чтобы поверить, что годы эти ему не приснились. Да и на Прасковью глянешь — постарела его Прасковья-то, надорвалась на мельничной работе. А ради чего? Разве такой представлял себе Гаврила будущую жизнь? Нет, не такой. Что-то в жизни делается не так, как хотелось бы Гавриле Мануйловичу, будто кто нарочно подрубает его жилы, не дает развернуться во всю силу.
Что налогами давят, так к этому он уже вроде попривык. Принял безропотно даже и то, что его детей засчитывают как бы за наемных работников, батраками у собственного отца, — и с этого тоже берут налог. Да и на кого роптать? На Митрофана Вуловича? Но не он придумывает налоги и всякие там декреты, а в городе — аж в самой Москве. До Москвы же не дотянешься. Как говаривали совсем недавно: до бога высоко, до царя далеко. Но вот что на собственной мельнице он, Гаврила Мануйлович, не может забить лишний гвоздь без разрешения местечкового начальства — это уж ни в какие ворота не лезет, это уж просто и не знаешь как назвать, а лишь плюнуть да выругаться самыми последними словами.
Оно бы и, действительно, плюнуть на все, да куда денешься? Только извечная крестьянская привычка к работе заставляла Гаврилу вставать каждое утро с петухами, поднимать остальных и двигаться как бы по кругу, будто слепая лошадь на току, делая то одно, то другое, то третье. Единственное — работы не убавлялось, да вот результатов этой работы почти не видно.
Осенью 28-го года молоть начали рано, в августе еще. С утра до вечера тянулись и тянулись на мельницу через Лужи и через наплавной мост через реку, сливаясь в единый поток на старых гатях, крестьянские телеги с зерном нового урожая, и будто вороны на падаль, чуть ли ни каждую неделю из волости, а то и из самого Смоленска, наезжали всякие проверяющие, днями напролет копались в бумагах, щелкали на счетах, считали мешки, составляли акты, ели Гаврилин хлеб, пили Гаврилино молоко и чай с Гаврилиным медом, таращились на его граммофон, купленный еще в двадцать втором году, пересчитывали его коров и лошадей, грозились и уезжали в город, успокоенные обильными подношениями «для малых деток».
Гаврила уж и не знал, что он делает правильно, а что нет, и только хмуро выслушивал всякие замечания, подписывал какие-то бумаги, чувствуя, что мельница ускользает из его рук, становится чужой, не радует душу.
Слава богу, что всю отчетность взяла на себя Полина, что она как-то находит общий язык с проверяющими и всякими другими представителями власти, а то Гаврила давно бы попал впросак, настолько все перепуталось в его голове, не отвечая, по разумению Гаврилы, здравому смыслу.
Но не всех проверяющих можно задобрить мукой, салом, маслом и медом. Иные считают, что Гаврила ведет дело не так, как требуют того всевозможные постановления. Другие уверены, что он что-то от них утаивает, что зерно и муку сдает государству не полностью, что непременно есть у него где-то тайники, куда он прячет наворованное, и окружающий Гаврилину мельницу лес на версту во все стороны был истыкан железными шкворнями. Ни одного тайника так и не нашли, потому что их и не было, зато честно заработанный хлеб выгребали почти подчистую в убеждении, что тайники все-таки имеются, и, следовательно, мельниково семейство с голоду не подохнет.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: