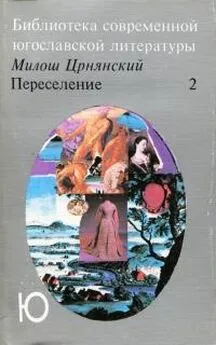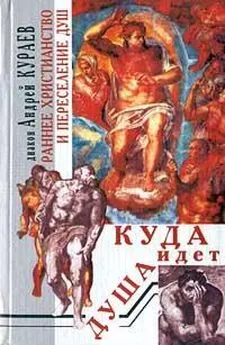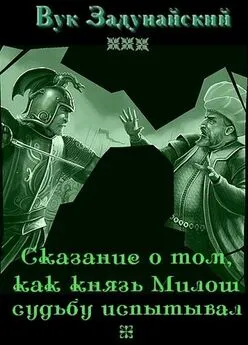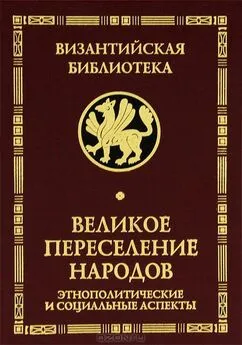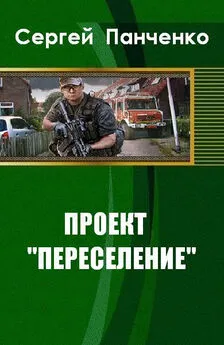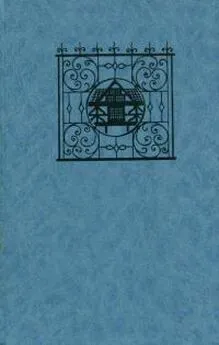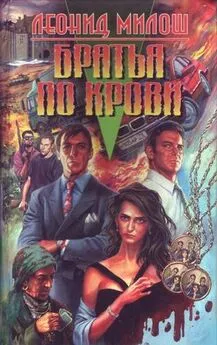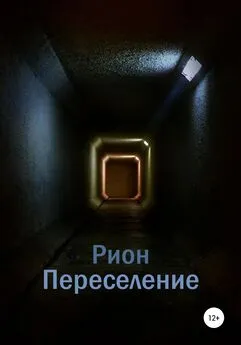Милош Црнянский - Переселение. Том 2
- Название:Переселение. Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-280-01294-7, 5-280-01295-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Милош Црнянский - Переселение. Том 2 краткое содержание
Роман принадлежит к значительным произведениям европейской литературы.
Переселение. Том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Они получали благодарственные грамоты, и им выдавали недоплаченные порционные деньги.
Жизнь казалась чудесной.
Хотя на их величества им и в то время было наплевать, хотя Павел видел Марию Терезию лишь издали, когда вместе с венгерскими офицерами был допущен поближе к украшенному цветами помосту, где среди блестящей свиты сидела толстая и красивая императрица со своим мужем, которого она звала Францл, братья были восхищены блеском австрийского двора. Бедняга Трифун решил, что платье Марии Терезии — из червонного золота, а бесчисленные блестящие камешки на ее платье и шлейфе — настоящие бриллианты. «Такая, мол, наверно, была и царица Милица, владычица сербов» {46} 46 «Такая, мол, наверно, была и царица Милица, владычица сербов». — Княгиня Милица, дочь князя Вратко, одного из потомков основателя династии Неманичей. В 1353 г. вышла замуж за князя Лазара, после гибели которого мудро управляла государством. Сербские народные песни называют ее царицей Милицей.
.
Юрат, смотревший на Марию Терезию с пятидесяти шагов, описывал ее женские прелести. Да так, что, если бы кто посторонний его услышал, не избежать бы ему участи Иоанна Божича. Только у Петра, тщетно ожидавшего, что Варвара понесет, возникли неприятности с тестем, но и он утешался тем, что жена исповедует ту же веру, что императрица.
На житейских горизонтах Исаковичей еще не сгущались темные тучи.
Братья были разодеты, расфуфырены, кичливы, и, хотя войны с турками уже прекратились, им все еще казалось, что среди сербов они первые. Они были близки к своим гусарам, ближе, чем нынче думают, — многие приходились им кумовьями и родичами. Всех, кто не воевал, — ремесленников, коммерсантов, чиновников и даже сенаторов в Неоплатенси, — они в душе глубоко презирали. «На Косове, — говорил обычно Юрат, — купцов не было. Лавочников в войске царя Лазара тоже не было».
С маневров возвращались они как с какой-то нескончаемой свадьбы, всюду их принимали точно сватов, будь то Байя, Сириг, Сомбор, Ада или Мошорин. Только в Варадине братья расходились.
И хотя эта земля принадлежала чужому царству и королевству, их это мало заботило, они относились к ней как к своей, отвоеванной у турок «mit dem Säbel!».
По своему простодушию всю эту землю они считали сербской, их землей, и протянулась она далеко, без конца и края. Многочисленные женитьбы и кумовства до того связали и перемешали эти офицерские семьи, что каждый из них в Араде, Темишваре, Вуковаре, Шиде, Митровице чувствовал себя как на своей родине, словно он здесь родился, женился, был похоронен и воскрес. Это не значит, что переселенцы из Сербии не ощущали среди Муцулов, Копшей, Трандафилов, Дарваров своей бедности! Золото и дукаты в армии и в Вене были сильнее сабли. И хотя они скрывали свою бедность и только отшучивались, однако на богатство своих жен смотрели с презрением, как на что-то низменное, не идущее ни в какое сравнение с саблей. Честолюбивый Петр, надменно щуря глаза, говорил жене, когда она хвалила своего отца: «Что поделаешь, Шокица, дай бог тебе счастья, отец он тебе, но не царедворец!»
Для Петра Исаковича только воин был человеком.
Трандафилы были для него торгашами, лавочниками.
Потеря конницы, знамен, крепостей, разрушение церквей Павлу Исаковичу представлялось новой гибелью царя Лазара.
Перевод из кавалерии в пехоту — катастрофой!
После первых маневров в России досточтимый Исакович возвращался в Киев в ином расположении духа. Родные его в Миргороде заметили, что виски его поседели еще больше, хотя ему исполнилось лишь тридцать восемь лет. Уезжая из Миргорода, расставшись с Петром, Павел еще раз виделся с Трифуном. Тот подошел к нему и наспех повторил свою просьбу о детях.
Павел не выспался, устал и был так расстроен, что едва слышал, о чем говорит Трифун. Не знал даже, какой был день, спросил Трифуна, и тот сказал, что суббота, день святой мученицы Софии с дочерями. Павел тут же вспомнил госпожу Софику Андреович, с которой Трифун любезничал, несмотря на Дунду Бирчанскую и свою тоску по детям, и нахмурился. А потом невольно улыбнулся.
Трифун бахвалился, что послезавтра примет должность заместителя командира Ахтырского полка. Ему-де помогает какое-то волшебство, потому что послезавтра, как по заказу, день святого Трофима.
— Чего только в России не бывает! — завершил Трифун.
По дороге из Миргорода в Киев Павел приуныл еще и от того, что увидел, как отличается природа, ландшафт, климат страны, в которой он отныне будет жить, от его Срема. Начало осени здесь было жарким и знойным. Край, через который он сейчас проезжал в свите Костюрина, чем-то напоминал Бачку, и все-таки он навевал грусть. Оглядываясь по сторонам, Павел думал, что вот где он, значит, поселится и закончит свою жизнь. Пришел, значит, конец его скитаниям.
Бесконечная равнина, казалось, была плодородной. Жирный чернозем. Воткнешь сухую палку, как говорится, дерево вырастет. И вместе с тем совершенно безжизненной. И еще содрогалась от воспоминаний о турках и татарах. Только кое-где темнел лесок. Текла речушка. Высился пригорок. Росли акации или виднелась деревенька с неизменными подсолнухами, а дальше — опять трава, трава. Разве что пробежит лисица или проскочит редкий заяц.
На горизонте замаячит всадник и сгинет.
А солнце жарит, жарит, огромное, похожее на подсолнух.
В этой голой степи Павел совсем не слышал песен, а если она вдруг звучала, то вместе с топотом копыт всадников и с ними пропадала. Переселенцы не видели русского народа — несчетного русского народа, о котором столько наслушались в Киеве. Встречали лишь одиночек возле лачуг, речушек. Попался им как-то болтливый старый бобыль, живущий в шалаше на пчельнике, потом молодой мужик с кучей детей — он раскладывал сушить сети на крыше своей хижины и смотрел на них с ненавистью.
Самым непостижимым казалось им то, что на маневрах среди офицеров они встречали несколько немцев, которые с невероятным восторгом отзывались о пруссаках и прусском короле. Открыто, не стесняясь и не таясь. А когда Исаковичи с недоумением спрашивали, как же это так, им советовали помалкивать. Будущий царь всея Руси — пруссак в душе и муштрует гвардию на прусский манер. Братья решили, что они грезят наяву, когда услыхали об этом от Витковича.
Это не укладывалось в их сознании.
Впрочем, когда среди офицеров заходила речь о прославившихся на войне генералах и о том, что весной они приедут на более крупные маневры в окрестностях Киева, то упоминались иностранцы, фамилии которых Исаковичам приходилось слышать и в австрийской армии и которые были ирландскими, шотландскими, французскими, о чем Исаковичи не знали.
Но еще больше удивило Исаковичей то, что все эти немцы, даже из низшего офицерского состава, с которыми они познакомились в Миргороде и Киеве, говорили не по-немецки, а по-русски. Тогда как Исаковичи русского не знали.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: