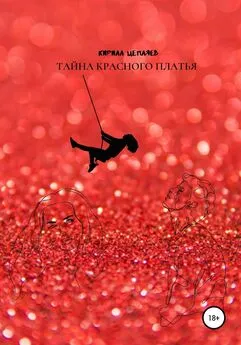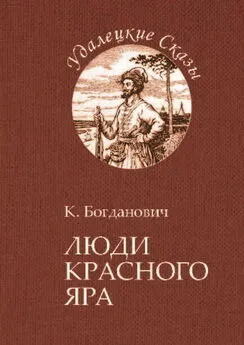Кирилл Богданович - Люди Красного Яра [Сказы про сибирского казака Афоньку]
- Название:Люди Красного Яра [Сказы про сибирского казака Афоньку]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Красноярское книжное издательство
- Год:1977
- Город:Красноярск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Кирилл Богданович - Люди Красного Яра [Сказы про сибирского казака Афоньку] краткое содержание
«Люди Красного Яра» — книга избранных сказов (из двух предыдущих) о жизни Красноярска «изначального». В сказах, прослеживая и описывая судьбу казака Афоньки, автор воспроизводит быт, образ жизни казаков и местных жителей, военную технику и язык той эпохи, воссоздает исторически верную картину ратных и трудовых будней первых красноярцев, рисует яркие и самобытные характеры русских землепроходцев.
Книга издается к 350-летнему юбилею Красноярска.
Люди Красного Яра [Сказы про сибирского казака Афоньку] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Когда стол был излажен и поставлен взамен старого, который Афонька выкинул из избы, пришел Богдан. Он поахал, походил около стола, нахваливаючи Афоньку — ах молодец! Потом вытащил из-за пазухи невеликую глиняную сулейку, и поставил на новый стол.
— Сух, Афоня, стол-то? — спросил Богдан.
— Сух, сух, — ответил Афонька, проводя ладонью по гладкой белой лоске столешницы.
— Так. Стало быть, замочить его надобно.
— Как это — замочить? — подивился Афонька. — Ну и хорошо, коли сух.
— А вот так, — хитро глянул на Афоньку Богдан и стал разматывать узелок, который принес с собой. В узелке был добрый кус хлеба, рыба — стерлядь соленая, две луковицы, редька, несколько ломтей вяленого мяса. Афонька сглотнул слюну — в брюхе у него сразу заурчало.
— Не ел поди-ка еще? — спросил Богдан.
— Нет еще. Вот сейчас до дому дойду.
— Э, нет! Погоди. Давай-ка вот, стало быть, вкусим, что бог послал и стол замочим. — Богдан взял сулейку и потряс ею. В ней забулькало. — Хлебнем, Афоня, с тобой малость за новым столом, чтоб способней на нем писать было.
— А, вона чо! — улыбнулся Афонька. — Ну, давай, коли так.
Они сели за стол, и вскорости ни от припасов Богдановых, ни от того, что в сулейке было, ничего не осталось.
Подьячий от вина быстро осоловел. Он сидел, улыбался, поглаживая рукой доски на столе. Лицо его разрумянилось.
— Ай и любо будет теперь писать на таком столе! приговаривал Богдан.
— А ты чо пишешь-то? — запытал Афонька. — Али тебе в приказе места нет? А то, может, не доспеваешь все писать-то?
Богдан помолчал, посидел, прикрывши глаза и оперши голову на руку, будто в дрему впал. Потом поднял голову и глянул на Афоньку.
— Эх, Афоня, Афоня! Кой в приказе толк? Это все такое дело… — Богдан повертел рукой в воздухе. — Там все государевы дела разные. Отписки от воеводы на Тобольск, на Енисейск, на Москву в Сибирский приказ. Книги писцовые, описи… А тут я пишу иное, — и подьячий постучал пальцем по столешнице. — Ино-ое, — протяжно повторил он.
— А чо? — залюбопытствовал Афонька, — поведай, коль не тайное то дело.
— То дело тайное, Афоня. Но тебе, так и быть, откроюсь, потому — верю тебе. Но ты — никому, ни даже-даже…
— Крест на том целую, — ответил Афонька и, вытянув нательный медный крестик, что висел на тонком шнурке, истово прикоснулся к нему губами.
— Ладно, Афанасей. И так верю тебе, — тихо сказал Богдан. — А пишу я вот про что. Про острог наш пишу. Про Красноярский. Что в какой год случилось. По летам пишу.
— А зачем? — изумился Афонька.
— Как зачем? Чтобы всем ведомо могло быть, как и что в нашем остроге было.
— Так то и так всем ведомо! Чего писать-то? Ты, Богдан Кириллыч, что-то мудруешь, али я умом скуден — никак в толк не возьму.
— Нет, Афоня, умом ты не скуден. А в толк не возьмешь того, что я говорю, потому что не ведаешь, что есть книжная премудрость и для чего она служить может.
— Это верно. Книжной премудрости и грамоте я не обучен.
— А это дело великое есть. Великое, — прошептал Богдан и опять по-давешнему глаза прикрыл, будто придремнул.
— Ну-у, вестимо — великое, — не совсем уверенно ответил Афонька, силясь уразуметь — чем же еще велика книжная премудрость, опричь того, чтобы книги богослужебные честь и разные грамоты и челобитные писать.
— Вот ты молвил, — начал подьячий, открыв глаза, — что в остроге и так-де всем ведомо про то, где и что на Красном Яру случилось. Так ли?
— Ну так.
— А вот то-то, что ведомо, да на день, на два. На год, на два. Ну а далее что?
— Как чо? — не понял Афонька.
— Ты вот скажи, когда киргизский набег великий на острог был? Помнишь?
— Это когда Федьку до смерти побили? — хмуро промолвил Афонька. — Как не помнить! По гроб жизни не забуду, — и он перекрестился.
— Это так. А вот, в котором годе это было и не помнишь.
— Ну, может, лет осемь назад.
— Вот. И не помнишь точно. А кого еще побили в том набеге? Помнишь ли?
— Ну как же!
И Афонька стал вспоминать по именам побитых в бою с киргизами казаков, загибаючи пальцы, но вскоре сбился.
— Эва! Забыл! — воскликнул он.
— Вот и забыл. А мужиков-то пашенных и татар подгородных и иных кого — баб и девок — сколь побили да в ясырь увели, помнишь ли?
— Нет.
— А я вот про все знаю.
— Ну так то ты! Ты же грамоте обучен, не чета нам — неученым.
— Истинно так, Афоня. Истинно. Грамоте обучен. И потому, опричь отписок и грамот разных, пишу я для памяти, что и как случилось на остроге. Пишу все доподлинно: и дурно что было, и хорошее. И горе и беды наши, и радость какая случалась, и кривды какие супротив кого были и от кого те кривды были — все пишу.
Вот, к прикладу, помрем мы: я, ты, иные казаки, воеводы, — кто будет знать, как острог Красноярский ставили, да как служба государева шла на остроге, как бились казаки с иноземными ратными людьми? Я вот в книгу свою напишу все, и всем ведомо станет, кто прочтет ее. А так если — то и забудется про все.
— Теперь уразумел я, Богдан Кириллыч. И много ль ты понаписал-то?
— Много, Афоня, много. А и все мало. Вся жизнь наша многотрудная здесь вот записана. Уж так и быть — тебе я покажу. Только чур, Афонька, не обмолвись никому. Ото всех втайне книгу я держу.
— А пошто?
— А так. Воевода дознается — отымет книгу мою. Он уже мне на нее запрет наложил. Как проведал про мою затею, так и вскинулся: тебе кто велел, зачем пишешь? Ты-де и про меня чего, может, непотребного напишешь. Ишь, — молвит, — чего удумал. Не по чину-де тебе такие книги весть. Вот ежели б был ты не подьячий, хоть и приказной, а дьяк с приписью был, то дело иное. А потом и велел — принеси тоеё книгу. Я и принес. Стал он вычитывать, а потом мне указки давать. То велит вымарать, иное… Заспорился я с ним. Тогда он разъярился и сказал, что-де сожжет книгу мою. Обмер я тут, еле вымолил у него книгу и слово дал, что не буду боле писать, а книгу сам-де огню предам. Книгу-то он отдал, а слову моему веры не дал. Так за мною и следит: что, мол, это пишешь, и во всякую бумагу мне из-за спины глаза запускает. Ох и тяжкое дело. Вот тут и спасаюсь пока. Да и то все допытывается, это, мол, ты чего в своей избенке, ровно бобыль какой, хоронишься? А я ему, — от бабьего-де визгу спасаюсь. Уж больно мне мои бабы надоели. Эх ты, говорит воевода, в струне их держать не можешь. У меня так и не пикнут, коль я в доме.
Сказав это, подьячий опять примолк и прикрыл глаза.
— Вот, — спустя малое время начал он. — Так и живу. Воевода-то еще что говорит. Мол, и без тебя напишут, коли надобно будет. Написать-то, может, и напишут, да не все. Ах, боится воевода — вдруг чего я про него дурное напишу. Вот он и не велит мне книжку писать про людей Красного Яра. А там, в книжке той, там, Афоня, все люди красноярские и все их дела, и все их слезы, и все их победы, и вся их слава — все там. Помрем мы, а дети наши и кто новые на наши места заступят — все ведать будут, как мы жили…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Кирилл Богданович - Люди Красного Яра [Сказы про сибирского казака Афоньку]](/books/1070251/kirill-bogdanovich-lyudi-krasnogo-yara-skazy-pro-sib.webp)
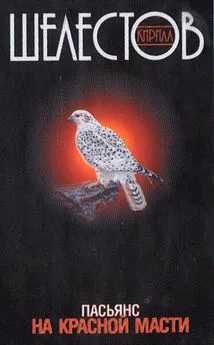
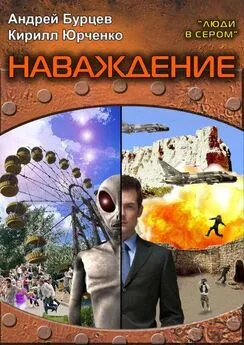
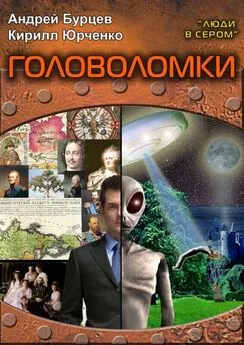

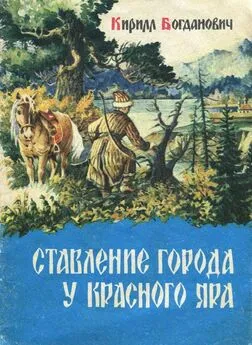
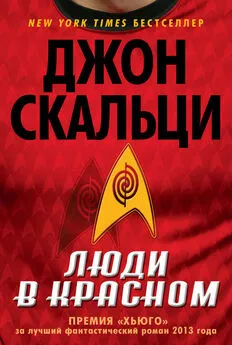
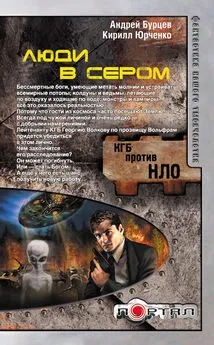
![Кирилл Цепляев - Тайна красного платья [litres самиздат]](/books/1149244/kirill-ceplyaev-tajna-krasnogo-platya-litres-samiz.webp)