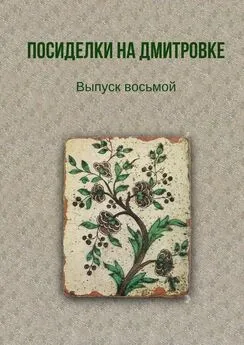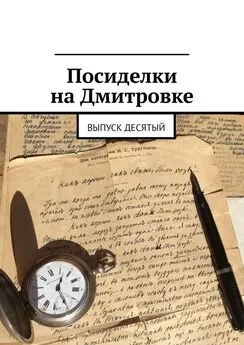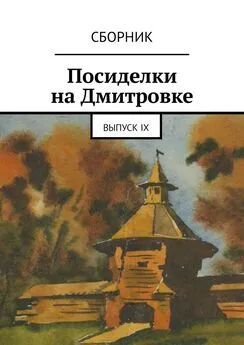Коллектив авторов - Посиделки на Дмитровке. Выпуск 8
- Название:Посиделки на Дмитровке. Выпуск 8
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Посиделки на Дмитровке. Выпуск 8 краткое содержание
На 1-й стр. обложки: Изразец печной. Великий Устюг. Глина, цветные эмали, глазурь. Конец XVIII в.
Посиделки на Дмитровке. Выпуск 8 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Наслушавшись этих рассказов, я играл с братьями в запорожские битвы. Играли мы в овраге за усадьбой, где густо рос около плетня чертополох — будяк. …И такова сила детских впечатлений, что с тех пор все битвы с поляками и турками были связаны в моем воображении с диким полем, заросшим чертополохом, с пыльным его дурманом. А самые цветы чертополоха были похожи на сгустки казацкой крови».
Даже в этом коротком описании детских боев, прямых столкновений детей друг с другом, хоть и в игре, уже явно проглядывает вторая сторона личности маленького Кости: поэтическая романтичность, та отрешенная лиричность в мире фантазий, которая долго так пугала его мать. Это она предсказывала ему нищету и смерть под забором, приговаривая, что у него «вывихнутые мозги и всё не как у людей».
Марина Цветаева для своей непохожести на других очень рано сама нашла точное себе определение: «Вот отчего я меж вами молчу: Вся я — иная», и не раз поэтически связывала это со своим «морским» именем: «Но душу Бог мне иную дал: Морская она, морская!». А за семь лет до ухода из жизни назвала себя «Одинокий дух. Которому нечем дышать».
А все у нее начиналось, как и Паустовского, с игры. В стихотворении «Дикая воля» так и сказано: «Я люблю такие игры, где надменны все и злы». Самоутверждение в будущей победе — как много об этом в ранних цветаевских стихах! Вот она барабанщик «всех впереди», вот в ее руках аркан, а «все враги — герои!», и она, конечно же, сильнее и быстрее их. Прямая борьба — кто кого! «Я — мятежница с вихрем в крови» — это тоже ее юношеское самоопределение.
Но жизнь всегда вносит свои коррективы и заменяет приоритеты и житейские установки на новые. И очень скоро Цветаева скажет: «Но знаю, что только в плену колыбели / Обычное женское счастье мое». Пришла любовь и стала главной в ее жизни. Но именно тогда она почувствует еще острее свою «инакость», свои «люблю» и «ненавижу».
В юности любовь у Цветаевой, казалось, била через край: «Я не делаю никакой разницы между книгой и человеком, закатом, картиной — всё, что люблю, люблю одной любовью», писала она в свои 22 года.
«Я одна с моей большой любовью / К собственной моей душе», — напишет она в 1913-м. И это утверждение пронесет сквозь всю жизнь.
А у Паустовского тоже ключевое слово в его жизни и во всем творчестве — «Любовь». Один из его героев выразил это так: «Нужна большая сила. Она есть у каждого. Я узнал ее недавно. Она все решит… Простое слово… Любовь».
Любовь все решит, — чувствует Паустовский, — во всех проявлениях жизни — и личной, и общественной.
У Цветаевой же любовь относится только к тому, что есть ее внутренний мир, к содержанию собственной души. «Мне ничего не нужно, кроме своей души», — можно сказать, что это ее формула, самое краткое и точное самоощущение.
Отсюда ненависть ко всему, что не есть гармония ее необъятного высокого внутреннего мира: «Ненавижу свой век, потому что он век организованных масс, которые уже не есть стихия, <���…> лишенных органичности». Это уже голос Цветаевой зрелого возраста, после 40 лет. «И основное — над всеми и под всеми — чувство КОНТР — чисто физическое: наступательное — на пространство и человека, когда он в количестве».
Движение навстречу, наступательное — отогнать, создать себе жизненное пространство для комфортного самоощущения и успешного творчества.
А у Паустовского иначе: стремление раствориться в окружающем, пропустить его через себя, чтобы любовно донести до читателя.
Зрелая Цветаева в работе «Поэт и время», размышляя о современности, определила так: «Быть современником — творить свое время, а не отражать его. Да, отражать, но не как зеркало, а как щит. Быть современником — творить свое время, т. е. с девятью десятыми в нем сражаться».
Потому что «Мировая вещь… Всё дав своему веку и краю, еще раз все дает всем краям и векам. Предельно явив свой край и век — беспредельно являет все, что не-край и не-век: навек».
И Цветаева, и Паустовский свое время «творили» и создавали «мировые вещи», вечные ценности.
До самого конца жизни эта двойственная позиция внутреннего мира — и окружающего, внешнего — у Цветаевой сохранилась. Главная её забота — донести все, что прочувствовала и написала, до людей, отдать свое душевное богатство — «У меня еще много улыбок другим…».
Но где оно, созвучие и понимание читателя духовных высот и необычностей ее души? Его и сейчас, в наше время, практически нет, так она забежала вперед в своем духовном развитии и мироощущении. Тогда, в конце парижского изгнания, она, может быть, все упорнее чувствует себя «со всем — в борьбе». И вот — подытоживание: категоричная горькая строка: «одному не простила — всем». Тому, кто не сумел внять ее бескрайней душе…
Но у цветаевской фронды, мятежности и неприятия существовал естественный для нее психологический предел: она всегда в повседневности становилась на сторону побежденного и страдающего.
Еще в начале первой Мировой войны она выдохнула: «Не надо людям с людьми на земле бороться!».
На земле. Не в пространстве духовной и поэтической жизни души, а на земле. Это пацифистское осознание пришло на смену всем ее собственным воинственным юношеским играм. Сама жизнь подвела к этому с голодом разрухи гражданской войны, смертью юных, ранами уцелевших. Сразу для Цветаевой исчезли враждующие, остались одинаково страдающие: «И красный, и белый — мама!».
И вообще ее «инакость» всегда диктовала ей «реакции обратные. Преступника — выпустить, судью — осудить, палача — казнить…».
И сама она «Двух станов не боец» — ни той, ни другой стороны. «Словом, точное чувство, — пишет она в 30-х годах, — мне в современности места нет ».
А что же у маленького Кости сменило первичную игровую воинственность?
В этом мальчике изначально жила удивительная гармоничность, и она так же естественно в нем постепенно развертывалась в отрешенную созерцательность поэта и будущего лирического писателя. Как всегда, пример для восхищения, помогающий найти себя, — рядом, в своей семье. Это родной брат матери, дядя Юзя с его рассказами «интереснее похождений барона Мюнхгаузена». Это он пробудил в Косте романтическую непоседливость и жаркую тягу к новизне. «Земля после его рассказов стала казаться мне смертельно интересной, и это ощущение я сохранил на всю жизнь», — признается Паустовский. «Я только и мечтал быть „вторым дядей Юзей“».
Параллельно развивалось жаркое и действенное сочувствие к обездоленным из киевского яра, особенно к шарманщику с дочерью-гимнасткой. Отец очень в этом понимал сына и поддерживал, хотя мать поначалу возражала. Именно поддержка родителей закрепила у Паустовского первый опыт помощи и дружбы с теми, кого мы сейчас бы назвали бомжами, и опыт этот позже перешел у него в глобальный подход к жизни: неимущие требуют защиты и изменения своего положения, подход, который позднее стал основой его отношения к советскому строю.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: