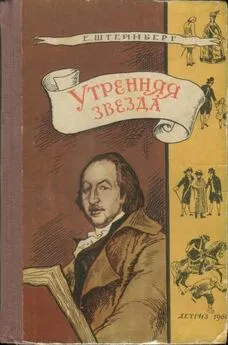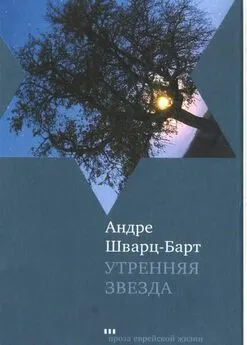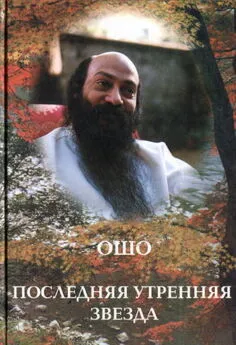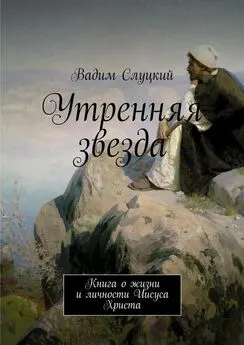Евгений Штейнберг - Утренняя звезда
- Название:Утренняя звезда
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное Издательство Детской Литературы Министерства Просвещения РСФСР
- Год:1960
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Штейнберг - Утренняя звезда краткое содержание
Мы видим смелых вольнодумцев и слышим пламенные речи тех, кто дрался на баррикадах Великой французской буржуазной революции.
Конец XVIII века дал России мужественного и бесстрашного летописца русской действительности — Радищева, который ценой своей личной свободы рассказал людям правду о жестокости и бесправии, царящих на русской земле.
В то время писал свои смелые памфлеты знаменитый Новиков, сочинял оды Сумароков, а гениальный зодчий Баженов возводил роскошные дворцы.
Вместе с русским художником Иваном Ерменевым мы попадаем в Париж и видим штурм Бастилии.
Рядом с писателями, зодчими и учеными трудились и создавали бессмертные ценности безвестные крепостные и мастера, имена которых забыты. Но мы знаем, что их было много и автор книги отдал им должное, избрав их героями своего романа. Кузнец Степан Аникин, актриса из крепостных Дуняша, мальчик Егорушка, ставший ученым-медиком, — все они трудами своими возвеличили Родину.
Написал эту книгу доктор исторических наук, профессор Евгений Львович Штейнберг. Блестящий лектор, которого любили слушать студенты, большой ученый, автор многих научных трудов, он был и талантливым беллетристом. Его книги «Индийский мечтатель» и «Георгий Скарина» (написанная в соавторстве с М. Садковичем) пользуются неизменным успехом. «Утренняя звезда» — его последний роман.
Е. Л. Штейнберг скончался скоропостижно 3 июня 1960 года, работая над корректурой этой книги.
Утренняя звезда - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— В чем же срам? — поинтересовался художник.
Сумароков вскипел:
— Разве для того существуют театральные подмостки, чтобы по ним разгуливали мещане, хотя бы и французские? Их и вокруг нас довольно, а язык такой слышим мы повседневно: на улице, в присутствиях, поварнях и людских… Можно ли больше оскорбить Мельпомену? В Париже поветрие это не столь опасно. Там глубоко посеяны семена вкуса Расинова и Мольерова. У нас же театр еще в диковинку. Публика — дура: модно, она и рукоплещет!.. Решился я после этого представления обратиться с письмом к господину Вольтеру, спросить его мнения…
Сумароков вышел и вскоре возвратился, держа в руке сложенный вчетверо лист.
— Читай! — сказал он. — Ведь ты грамотен по-французски…
Ерменев с интересом развернул послание.
«Ваше письмо, так же как труды ваши, — писал Вольтер, — служат величайшим доказательством того, что гений и вкус существуют во всех странах. Те, кто утверждает, будто Поэзия и Музыка присущи лишь землям умеренного климата, явно заблуждаются. Если бы климат оказывал столь большое влияние, то Греция продолжала нам давать Платонов и Анакреонов, как она дает все те же плоды и цветы, а Италия имела бы новых Горациев, Виргилиев, Ариосто и Тассо. Но, увы, в Риме остались только крестные ходы, а в Греции — палочные удары…»
Далее следовали комплименты российской императрице и ее просвещенным вельможам, рассуждения о трагедиях Расина и комедиях Мольера как непревзойденных образцах театрального творчества. Вольтер желчно высмеивал современных авторов, неспособных написать хороший текст даже для роли лакея.
Слезные драмы, в которых трагические происшествия облечены в мещанскую оболочку, он презрительно называл пьесами-ублюдками.
— Понял? — торжествующе спросил Сумароков, следя за выражением лица Ерменева. — Вот как рассуждает тот, которого весь образованный мир почитает величайшим ценителем искусства и поэзии. А у нас в Москве, видишь ли, не Вольтеру следуют, но подьячему… Вот до чего дожили! Подьячий стал судьей Парнаса!
— Судить о драмах этих не могу, ни разу не видевши, — сказал живописец. — Но неужто только знатное происхождение дает человеку право подвизаться на Парнасе, а простолюдину путь туда заказан?
— Не о простолюдинах речь! — горячо возразил Сумароков. — Никогда не был я одержим дворянской спесью… Если барчук или барынька при мне зовут простолюдинов хамовым отродьем, я им спуску не даю. А приказных и подьячих — крапивное семя — презираю и ненавижу всей душой… Они не дворянство и не народ, но клещи зловредные, сосущие кровь из тех и других… Нет, братец, уж коли подьячий угодил в судьи парнасские, стало быть, прощайте музы! Каков поп, таков и приход. Зрители московские стали хуже дикарей. Рассядутся в ложах, на сцену и не глядят. Сплетничают, хихикают, орехи грызут. Бранят во все горло провинившегося лакея или кучера, иной раз тут же в подъезде высекут его по всем правилам… Некогда был здешний театр моим Олимпом, ныне стал он моей Голгофой!.. Рассказывал я тебе, какому подвергли меня позору?
— Начали было, да не договорили. Это насчет итальянца?
— Вот, вот!.. Но не в итальянце суть. Кто он? Жалкий лакей, наемный убийца — только и всего. Ищи главных злодеев повыше! Среди тех, которые, кичась титулами, чинами, богатствами, презирают талант и вдохновение. Не могут они простить Сумарокову, что не желает пресмыкаться, что мыслит согласно убеждению своему, а не по указке…
— Что же произошло?
— Сговорились эти господа осмеять меня всенародно. Без моего согласия приказал граф Салтыков итальянцу представить старинную мою трагедию «Синав и Трувор». Актеров подучили играть роли гнусно, вопреки смыслу путать стихи. А многих зрителей подговорили хохотать громко, шикать, свистать… Слава богу, я узнал об этой затее заранее и на представление не явился. Да много ли от того проку?.. Сидел, запершись в доме своем, рыдал, как дитя малое, живо представляя себе, как высокопоставленные невежды издеваются над любимым моим творением. И сочинил в тот памятный вечер элегию… Вот послушай!..
Сумароков поднялся и, закрыв глаза, начал:
Все меры превзошла теперь моя досада;
Ступайте, фурии, ступайте вон из ада,
Грызите жадно грудь, сосите кровь мою!
В сей час, в который я терзаюсь, вопию,
В сей час среди Москвы Синава представляют
И вот как автора достойно прославляют:
Играйте, говорят, во мзду его уму,
Играйте пакостно за труд назло ему!
Сбираются ругать меня враги и други.
Сие ли за мои, Россия, мне услуги?
От стран чужих во мзду имею не сие,
Слезами я кроплю, Вольтер, письмо твое…
Вошел камердинер Антип.
— Вас зовут, батюшка! — сказал он, кивнув в сторону деревянного флигеля, который был виден из окна.
Сумароков оборвал чтение, заторопился.
— Поговорим вечерком, Иван… Сейчас недосуг.
Ерменев уже давно приметил, что между флигелем и господским домом существует какая-то странная связь. Туда то и дело бегали слуги и дворовые девки с кушаньями и самоварами. Сумароков ежедневно проводил там по нескольку часов. Иногда через раскрытые, затянутые кисеей окна оттуда слышался женский голос, окликавший Феньку или Палашку, а однажды, рано поутру, Ерменев увидел на крылечке флигеля дородную фигуру в длинной сорочке. Женщина стояла к нему спиной, лица он не рассмотрел.
Ерменев знал, что жена Александра Петровича с двумя дочерьми остались в Петербурге и что одной из причин, побудивших его переехать в Москву, были семейные раздоры. Живописцу было интересно познакомиться с сумароковской дамой сердца или хотя бы узнать, кто она. Однако Александр Петрович не приглашал его во флигель. При таких обстоятельствах расспрашивать было неуместно…
— Пойдем-ка побродим, Егор! — предложил он.
Мальчик подпрыгнул от радости.
…По приезде в Сивцово Егорушку отдали на лечение отставному военному лекарю, Николаю Матвеевичу Сушкову, который в отсутствие Александра Петровича управлял имением. Врачебное искусство старика было немудреным: лубки при переломах, примочки от ран и язв, травяные отвары и настойки от лихорадки и поноса, мушки и кровопускание при внутренних воспалениях. К счастью, у мальчика не оказалось ничего опасного, только небольшая рана на темени и сильные ушибы плеча и голени. Скоро он поправился.
Узнав из несвязного рассказа Егорушки о том, что приключилось в аникинском доме, Сумароков перепугался: неужели, спасаясь от чумы, он сам привез ее в свой дом? Но положенный срок миновал, никто не заболел, страхи рассеялись.
Мальчик быстро обжился в усадьбе. Поселили его в горнице у старой ключницы Агафьи. Он не грустил ни о родителях, ни о брате. В этом возрасте, так же как в глубокой старости, инстинкт оберегает слабые организмы от сильных душевных потрясений.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: