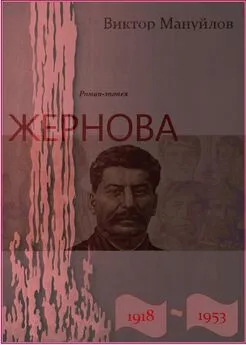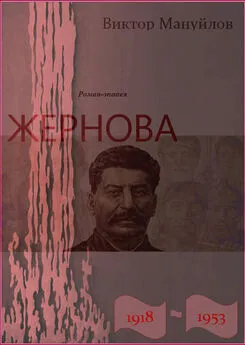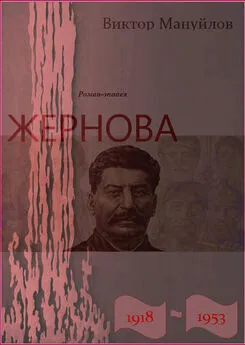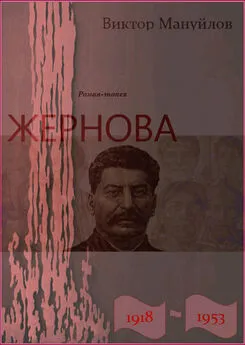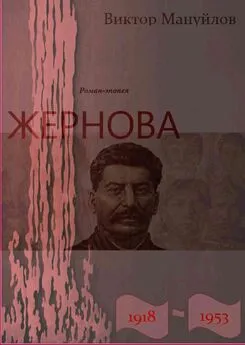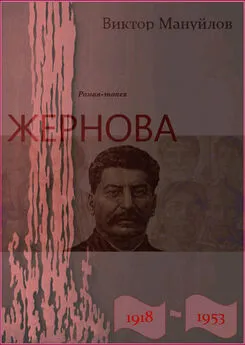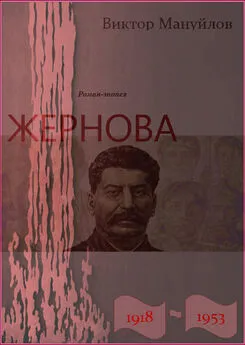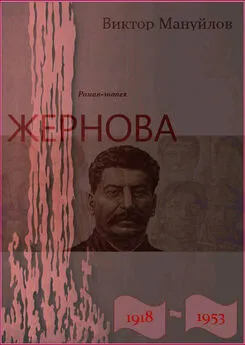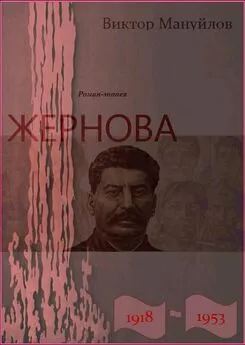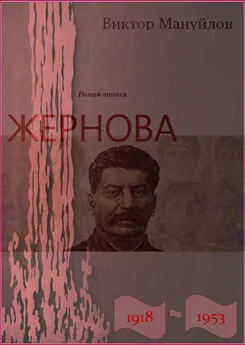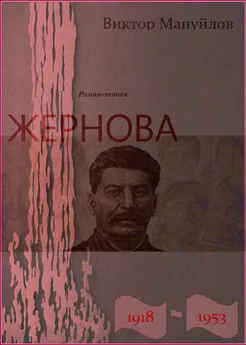Виктор Мануйлов - Жернова. 1918–1953. Обреченность
- Название:Жернова. 1918–1953. Обреченность
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Мануйлов - Жернова. 1918–1953. Обреченность краткое содержание
Мастерская, завещанная ему художником Новиковым, уцелевшая в годы войны, была перепланирована и уменьшена, отдав часть площади двум комнатам для детей. Теперь для работы оставалось небольшое пространство возле одного из двух венецианских окон, второе отошло к жилым помещениям. Но Александр не жаловался: другие и этого не имеют.
Потирая обеими руками поясницу, он отошел от холста. С огромного полотна на Александра смотрели десятка полтора людей, смотрели с той неумолимой требовательностью и надеждой, с какой смотрят на человека, от которого зависит не только их благополучие, но и жизнь. Это были блокадники, с испитыми лицами и тощими телами, одетые бог знает во что, в основном женщины и дети, старики и старухи, пришедшие к Неве за водой. За их спинами виднелась темная глыба Исаакия, задернутая морозной дымкой, вздыбленная статуя Петра Первого, обложенная мешками с песком; угол Адмиралтейства казался куском грязноватого льда, а перед всем этим тянулись изломанные тени проходящего строя бойцов, – одни только длинные косые тени, отбрасываемые тусклым светом заходящего солнца…»
Жернова. 1918–1953. Обреченность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
– Признаться, я даже и не очень задумывался над тем, чем вы для меня являетесь, – заговорил он раздумчиво, стараясь быть как можно более искренним хотя бы с самим собой. – Вы есть, есть ваше окошко с белыми занавесками, иногда розовая тень на них от абажура, ступеньки вашей лестницы… И вообще, если на то пошло, возможность куда-то придти, где тебя если и не ждут, то и не выгонят, где нет этих бесконечных разговоров и пересудов о людях, подразумевая под этим искусство. Как будто искусство творят люди… А люди если что-то и творят, то самих себя. Так что, если я вам надоел, вы так и скажите, потому что я человек в этом смысле весьма не чуткий, более всего поглощен самим собой… Эгоист, одним словом, явление, можно сказать, антисоветское.
– Ну что вы, Алексей Петрович! Как можно! Если я вас и не жду, то потому что… Ну, кто я для вас? Флейтистка из оркестра, нечаянно поскользнувшаяся на льду. Не поскользнулась бы, вы прошли бы мимо, даже не оглянувшись.
– Но поскользнулись же… А это, если угодно, знак свыше.
– Может быть. Только я не знаю… Я ничего не знаю, но мне иногда вас становится жалко, хочется погладить по голове, утешить, хотя вы и не жалуетесь… И вообще…
– Что именно?
– Не знаю.
Ирина зябко передернула плечами и жалобно посмотрела на него своими близорукими глазами.
Алексей Петрович порывисто поднялся, отодвинул стул, шагнул в ее сторону, остановился в нерешительности.
– Не знаю, как вам, а мне хочется это сделать сейчас…
– Нет-нет! Нет… Пожалуйста, не надо, – взмолилась она, вскочив, и даже ладони сложила лодочкой, а на глаза вдруг навернулись слезы. – Пожалуйста…
Алексей Петрович круто развернулся и пошел к вешалке… Он долго не мог попасть в галоши, чертыхался про себя, а Ирина молча стояла рядом, и он видел ее ноги – восхитительные ступни, тонкие щиколотки, длинные ровные пальцы с короткими ногтями, выглядывающие из выреза домашних босоножек.
Кровь прилила ему к лицу, он выдернул ложку из галоши, выпрямился, топнул ногой.
– С этими галошами – одна беда: то не наденешь, то сваливаются на каждом шагу. И кой черт их выдумал! На Западе галоши не носят. Там обувь делают прочной и непромокаемой. Не то что у нас, – ворчал он, застегивая пуговицы плаща.
Ирина грустно и виновато улыбнулась ему в ответ, точно именно она и выдумала эти галоши.
Алексей Петрович по установившейся привычке взял ее тонкую и холодную руку, поцеловал в запястье. И вдруг почувствовал легкое прикосновение к своим волосам, точно бабочка села или коснулся желтый лист березы на пути к земле.
Он разогнулся, глянул в лицо Ирины, но ничего не увидел кроме привычной грусти в серых ее глазах. И решил, что прикосновение ему померещилось.
– Заходите, Алексей Петрович в любое время, – произнесла она тихо. – Я всегда рада вас видеть.
– Непременно, – ответил он и шагнул за порог, все еще не понимая, что произошло и произошло ли хоть что-нибудь, но в их отношениях что-то изменилось – он это чувствовал – но к лучшему ли?
Лишь на улице, подставив разгоряченное лицо мелкой мороси дождя, он постепенно остыл и произнес вслух где-то читанные строчки:
– Все невозможное возможно, коль оба этого хотят.
И зашагал к дому, шлепая по лужам.
Он шел по Леонтьевскому переулку, затем, срезая угол, свернул под арку в проходной двор, в полутьме кто-то шагнул ему навстречу и… дальше Алексей Петрович ничего не помнит.
Очнулся он – вокруг все белое с голубым, точно он оказался среди ледяных торосов где-нибудь в Белом море, и совершенно раздетый: жестокий холод сжимал его тело в ледяных объятиях, оно содрогалось крупной дрожью, зубы выбивали дробь, и кто-то сказал женским голосом с явным облегчением:
– Ну, слава богу – очнулся. – А затем кому-то: – Иван Спиридонович, больной очнулись!
И вместе с этим голосом голову Алексея Петровича пронзила острая боль.
«Я ранен, – подумал Алексей Петрович отстраненно. – На меня напали. Теперь я в больнице. Но почему они ничего не делают, чтобы прекратилась эта дрожь, эта боль и этот холод? Они, наверное, не знают, кто я такой – вот в чем дело».
Кто-то склонился над ним, потрогал лоб, произнес какую-то непонятную фразу на латыни, затем спросил:
– Алексей Петрович? Вы меня слышите?
– С-с-с-лыш-шу, – еле выговорил Алексей Петрович, с величайшим трудом заставив нижнюю челюсть хотя бы дрожать не так сильно.
– Что у вас болит?
– Г-г-голов-ва.
– Знобит?
– Д-д-д-а-а.
– Ничего, сейчас сделаем вам укольчик – и все пройдет. Потерпите немного.
Действительно, кто-то взял его руку, потер, без всякой боли в нее вошла игла – и почти сразу же по всему телу стало растекаться блаженное тепло, боль, стучавшая молотками в затылке, постепенно стала затухать, пока не превратилась в легкое покалывание, все закружилось, поплыло – и Алексей Петрович затих и уснул.
Во второй раз Алексей Петрович, очнувшись и открыв глаза, увидел все то же бело-голубое, но уже не холодное, а даже почти горячее, а затем белое-голубое заслонило широкое лицо Маши, обрамленное в белое, ее прохладная рука легла на лоб, и Алексей Петрович снова закрыл глаза – на этот раз от усталости, непонятно откуда взявшейся.
– Ты только не плачь, – тихо попросил он. – Ведь ничего особенного не случилось. Могло быть и хуже.
– Я не плачу, – прошептала Маша. – С чего ты взял?
– И детям пока ничего не говори.
– Когда бы я сказала?.. Да ты сам-то молчи: нельзя тебе разговаривать.
– Сильно меня?
– Не знаю. Доктор говорит, что не очень. Но недельку тебе придется здесь полежать.
– Полежу. Что они взяли?
– Кто? А-ааа… Не знаю. Кошелек, наверное, часы. Плащ, ботинки, пиджак… Но пиджак бросили… Следователь говорит: увидели, мол, значок депутата, испугались… Их ищут… Следователь хотел бы с тобой поговорить…
– Хорошо. Только я ничего разглядеть не успел: темно было, какой-то человек навстречу… дальше ничего не помню.
– Молчи, молчи… ради бога. У тебя сотрясение мозга… Голова сильно болит?
– Нет, не очень. Но все время в ней что-то стучит, стучит.
Маша, наклонившись, прижалась щекой к его шершавой щеке, в то же время сжимая обеими руками его руку, будто стараясь забрать себе все его боли и страдания, целуя его, свое сокровище, и тихонько всхлипывая.
– Ну, вот, ну, вот, – ворчал Алексей Петрович, гладя Машины волосы и плечи. – Эка ты, право, ангел мой. Ничего со мной не случится до самой смерти. Если на войне остался жив, то теперь-то… Я у тебя живучий.
– Как раз такие-то теперь и гибнут, – прошептала Маша.
– Ты же знаешь: я к таким не отношусь. Я сам по себе.
– Мочи, молчи…
Ничто в эти минуты не тревожило душу Алексея Петровича, будто на всем свете существовала только одна Маша, одна только Маша – и никого больше. И никто больше не был ему нужен.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: